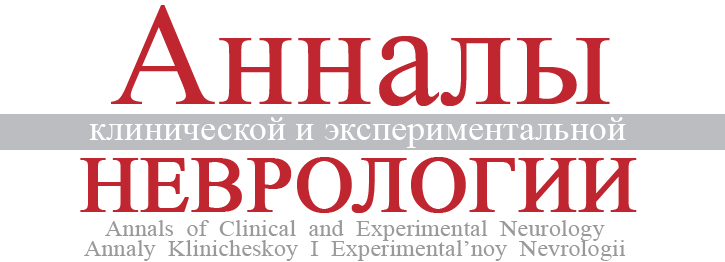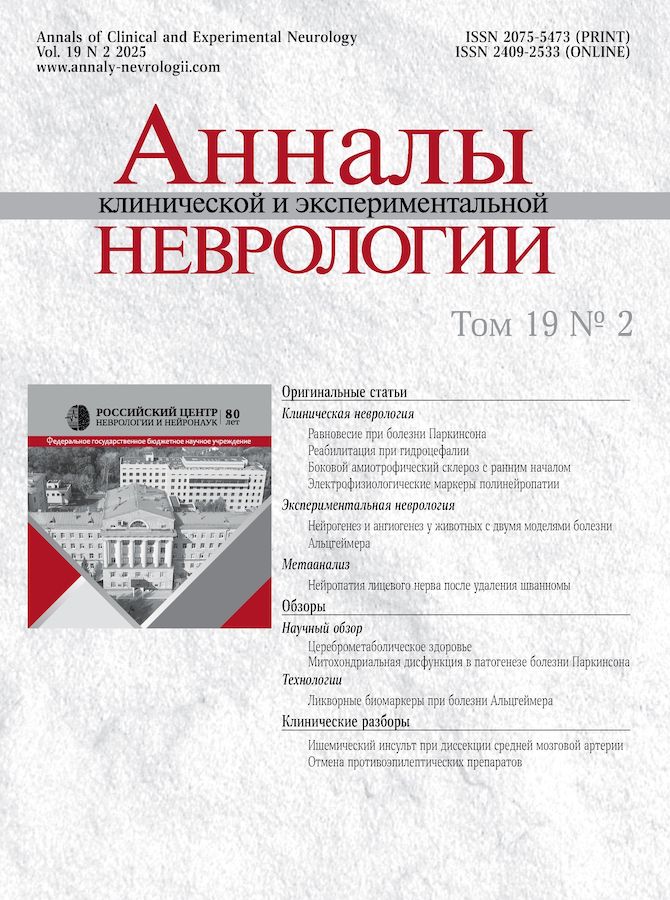Диагностические ликворные биомаркеры при болезни Альцгеймера
- Авторы: Невзорова К.В.1, Шпилюкова Ю.А.1, Шабалина А.А.1, Федотова Е.Ю.1, Иллариошкин С.Н.1
-
Учреждения:
- Российский центр неврологии и нейронаук
- Выпуск: Том 19, № 2 (2025)
- Страницы: 82-91
- Раздел: Технологии
- Статья получена: 05.08.2024
- Статья одобрена: 24.09.2024
- Статья опубликована: 26.06.2025
- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1185
- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1185
- EDN: https://elibrary.ru/YTDDIC
- ID: 1185
Цитировать
Аннотация
Болезнь Альцгеймера (БА) — хроническое нейродегенеративное заболевание и самая распространённая причина деменции в пожилом возрасте. Согласно последним международным рекомендациям по клинической диагностике БА, данный диагноз является клинико-биологическим: он требует наличия специфического клинического фенотипа и подтверждения биологической природы заболевания на основании исследования биомаркеров амилоидной и тау-патологии. В России методы лабораторной диагностики БА с исследованием ликворных биомаркеров проводятся лишь в отдельных научно-исследовательских центрах. Расширение доступности лабораторной диагностики БА и более широкое использование ликворных биомаркеров в клинической практике позволит оценить реальную распространённость БА в российской популяции, а также в ближайшем будущем отбирать пациентов для активно разрабатываемой в последние годы таргетной патогенетической терапии заболевания, основанной на применении моноклональных антител против патологических церебральных белков. В данном обзоре обобщена информация об основных биомаркерах БА в цереброспинальной жидкости и их диагностической и прогностической значимости.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) — хроническое нейродегенеративное заболевание и самая распространённая причина деменции в пожилом возрасте [1]. Центральными нейропатологическими особенностями БА являются отложение амилоида β (Aβ) в головном мозге в виде внеклеточных бляшек и образование внутриклеточных нейрофибриллярных клубков из фосфорилированного тау-белка [2].
В России зарегистрировано около 9 тыс. пациентов с БА [3], однако, по некоторым оценкам, более 90% случаев БА в России остаются не диагностированными [4]. Главным образом это связано с недостаточной информированностью врачей первичного звена о ранних признаках заболевания (когда симптомы расцениваются в рамках естественных возрастных изменений или цереброваскулярной патологии), опасением выставления данного диагноза на более развёрнутых стадиях ввиду возможных социальных последствий либо наличием атипичного клинического фенотипа, который не позволяет без вспомогательных параклинических инструментов определиться с типом нейродегенеративного процесса.
До последнего времени диагностика БА основывалась преимущественно на клинических данных — развитии характерного когнитивного дефицита [5]. Однако, согласно последним рекомендациям Международной рабочей группы по клинической диагностике БА (2021 г.), диагноз БА является клинико-биологическим и требует наличия специфического клинического фенотипа и подтверждения биологической природы заболевания на основании исследования маркеров амилоидной и тау-патологии [6]. Подтверждением амилоидной патологии может являться низкий уровень Aβ1-42 в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) или выявление патологического накопления амилоида в мозге по данным позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Тау-патология, в свою очередь, может быть диагностирована при высоком уровне фосфорилированного тау-белка в ЦСЖ или патологическом накоплении тау-белка, выявляемом при ПЭТ-сканировании мозга с соответствующим лигандом.
В России лабораторная диагностика БА с исследованием ликворных биомаркеров проводится лишь в отдельных научно-исследовательских центрах, тогда как для большинства российских клиник она остаётся недоступной [7–10]. ПЭТ с лигандами к Аβ и тау-белку не проводится ни в одной клинике страны. Однако задача верификации диагноза с целью проведения таргентной терапии будет уже в ближайшее время диктовать необходимость резкого повышения доступности лабораторной диагностики БА и более широкого использования ликворных биомаркеров в клинической практике (как более доступного метода по сравнению с ПЭТ).
Целью данного обзора является обобщение информации об основных биомаркерах БА в ЦСЖ и их диагностической и прогностической значимости.
Основные патогенетические механизмы развития заболевания
В 1906 г. Алоисом Альцгеймером впервые был описан клинический случай развития деменции у молодой пациентки, страдающей прогрессирующим нарушением памяти, речи, расстройствами движений, поведенческими изменениями и галлюцинациями. При патоморфологическом исследовании мозга пациентки обращало на себя внимание наличие макроскопических признаков обширной атрофии вещества головного мозга. Используя новейший для того времени метод импрегнации серебром гистологических срезов мозга, А. Альцгеймер выявил характерные нейропатологические изменения: внеклеточные амилоидные бляшки и внутриклеточные нейрофибриллярные включения [11]. В 1987 г. был верифицирован ген APP (amyloid precursor protein), кодирующий белок-предшественник амилоида, локализованный на 21-й хромосоме [12], а в 1992 г. была официально сформулирована амилоидная гипотеза БА [13].
АРР является трансмембранным белком и присутствует во многих тканях организма, однако его физиологические функции окончательно не установлены. Предполагается участие данного белка в процессах обучения, запоминания, нейропластичности, включая синаптогенез, что может рассматриваться как важный элемент нейропротекции [14]. Протеолитическое расщепление АРР может происходить двумя путями: неамилоидогенным, приводящим к образованию растворимого α-амилоида, и амилоидогенным, в результате которого формируются нерастворимые и склонные к агрегации фрагменты Аβ [15]. Согласно амилоидной теории, важнейшую роль в развитии БА отводят изменению характера расщепления белка АРР с избыточной продукцией Aβ-пептидов. Aβ образуются в результате последовательного расщепления APP специфическими ферментами: β-секретазой и γ-секретазой (идентифицируемой как пресенилиновый комплекс) [16]. Под действием γ-секретазы образуются амилоидные пептиды длиной 36–43 аминокислот [17]: в бóльшем количестве образуется пептид длиной 40 аминокислот (Aβ1-40), в меньшем — длиной 42 аминокислоты (Aβ1-42) [18]. Несмотря на то что у пациентов с БА могут выявляться различные изоформы Aβ, уровни Aβ1-42 и Aβ1-40 и их соотношение считаются наиболее надёжными биомаркерами заболевания [19].
Ранее основной причиной БА считалась гиперпродукция Аβ [20, 21], однако в последние годы основная роль отводится дефекту механизмов клиренса Аβ [22, 23]. S.S. Yoon и соавт. выделяют четыре основных механизма клиренса Aβ, разделяя их на неферментативные и ферментативные пути [24]. Неферментативный путь включает в себя три механизма:
Ферментативный путь обусловлен расщеплением Аβ с помощью протеаз, включая неприлизин [27], фермент, разлагающий инсулин [28], матриксную металлопротеиназу-9 [29], глутамат-карбоксипептидазу II [30]. Нарушение баланса между продукцией и клиренсом Aβ-пептидов способствует запуску каскада патологических реакций, являющихся основной причиной развития БА [15].
Внутриклеточное накопление растворимых амилоидогенных Aβ-олигомеров оказывает нейротоксическое действие ещё до формирования внеклеточных бляшек, приводя к возникновению синаптической дисфункции, постсинаптической гипервозбудимости, нарушению гомеостаза и увеличению продукции активных форм кислорода в митохондриях нейронов [31, 32]. Внеклеточно формирующиеся агрегаты нерастворимых фибрилл, содержащих Аβ-пептиды (амилоидные бляшки), также оказывают нейротоксическое действие: одновременно возникает дисфункция астроцитов и микроглии, выполняющих роль иммунных клеток головного мозга; развивается гиперпродукция воспалительных цитокинов; ухудшается фагоцитоз Aβ. Это приводит к активации клеточных сигнальных путей, связанных с апоптозом и гибелью нейронов [33].
Тау-белок ассоциирован с микротрубочками, экспрессируется в основном в нейронах и кодируется геном MAPT (microtubule-associated protein tau), локализованным на 17-й хромосоме. Исследования на основе нейровизуализации показывают, что время возникновения и локализация тау-патологии соответствуют как началу, так и типу когнитивного дефицита [34, 35]. Основными функциями этого белка являются стимуляция полимеризации тубулинов, стабилизация микротрубочек и транспорт внутриклеточных органелл [36]. Агрегация тау-белка — это многоступенчатый процесс, который, вероятно, начинается с гиперфосфорилирования тау-белка и его отрыва от микротрубочек. В процессе агрегации тау-белок перемещается в соматодендритные области нейронов, где происходят его дальнейшее фосфорилирование и структурные изменения. Неправильно уложенные белки начинают агрегировать, образуя свободно распространяющиеся патогенные олигомеры, что ведёт к дальнейшему развитию болезни, поражению здоровых клеток и гибели нейронов [37].
Описано несколько механизмов, приводящих к гиперфосфорилированию тау-белка с изменением его конформации и образованием нейрофибриллярных клубков:
Олигомеры Aβ сначала индуцируют фосфорилирование тау-белка в специфических эпитопах, а затем вызывают коллапс цитоскелета и дегенерацию нейронов [39].
Ликворные биомаркеры БА
Люмбальная пункция — это рутинная медицинская процедура, используемая в диагностических и терапевтических целях. ЦСЖ находится в прямом контакте с внеклеточным пространством головного и спинного мозга, в связи с чем её биохимические изменения могут отражать особенности патологии при нейродегенеративных заболеваниях. ЦСЖ является основной биологической жидкостью, используемой для диагностики БА [40]. Aβ1-42 и Aβ1-40, общий тау (total tau, t-tau) и гиперфосфорилированный тау (phosphorilated tau, p-tau) являются самыми известными ликворными биомаркерами, ассоциированными с заболеванием [41].
Aβ1-42
Белок Aβ1-42 в ЦСЖ признан ключевым биомаркером БА. Снижение концентрации Aβ1-42, обнаруженное в большом количестве международных исследований, демонстрировало высокую точность диагностики деменции и умеренных когнитивных нарушений альцгеймеровского типа. Данный биомаркер обладает высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике БА на всех её стадиях [42–45]. Доказано, что сниженный уровень Аβ1-42 в ЦСЖ является самым ранним патологическим изменением при БА, опережая ПЭТ-визуализацию с лигандом к Аβ [46]. Концентрация Аβ1-42 снижается задолго до появления клинических симптомов [47], что делает этот биомаркер особенно подходящим для ранней диагностики [48].
Механизмы, приводящие к снижению концентрации Aβ1-42 в ЦСЖ пациентов с БА, до сих пор неясны. Некоторые авторы указывают на то, что это может быть результатом избыточного отложения Aβ1-42 в амилоидных бляшках — агрегированное состояние препятствует транспортировке Aβ1-42 из интерстициальной жидкости в ЦСЖ [49]. Другие гипотезы включают снижение скорости продукции Aβ1-42 [23], его повышенную деградацию за счёт протеолитического распада [50] или поглощения микроглией [51], а также повышенный клиренс Aβ1-42 в кровь [52], однако они считаются менее вероятными [53].
Одним из ограничений изолированного исследования Aβ1-42 в ЦСЖ является частое выявление сниженного уровня данного биомаркера при других нейродегенеративных заболеваниях: церебральной микроангиопатии [54], деменции с тельцами Леви [55], болезни Крейтцфельдта–Якоба [56], лобно-височной деменции (ЛВД) [57]. Хотя уровни Aβ1-42 чаще всего значительно ниже при БА по сравнению с указанными заболеваниями, такое перекрытие тем не менее ограничивает дифференциально-диагностическое разделение патологий.
Ab1-40
В то время как Aβ1-42 составляет около 10% общей популяции пептидов Aβ, белок Аβ1-40 является преобладающей формой в головном мозге, ЦСЖ и плазме крови [58]. Общая концентрация Aβ слабо варьирует между различными заболеваниями, концентрация Aβ1-40 различается несущественно между пациентами с БА, здоровыми людьми и пациентами с деменцией другой этиологии [59]. Таким образом, можно считать, что концентрация Aβ1-40 в ЦСЖ наиболее точно отражает общую нагрузку Aβ в мозге, однако ценность его изолированного исследования остаётся спорной. Поэтому подсчёт концентрации Aβ1-40 используется в основном с целью исследования соотношения Aβ1-42/Aβ1-40.
Соотношение Ab1-42/Ab1-40
Введение соотношений белков Aβ1-42/Aβ1-40 было предложено в конце 1990-х гг. для улучшения дифференциальной диагностики БА [60]. Это соотношение является важным и учитывает конститутивные межиндивидуальные различия в общей нагрузке белка Aβ в ликворе между индивидуумами с высоким и низким уровнем продуцирования амилоида [61]. В исследованиях обнаруживалась высокая корреляция между более низким показателем соотношения Aβ1-42/Aβ1-40 и более высокими концентрациями общего и фосфорилированного тау-белка [62]. Пациенты с более низким соотношением Aβ1-42/Aβ1-40 имеют более быстрое когнитивное и функциональное ухудшение и демонстрируют более быстрое снижение эпизодической памяти [63]. Эти данные показывают преимущество использования соотношения Aβ1-42/Aβ1-40 по отношению к изолированному исследованию Aβ1-42 в ЦСЖ в прогностической оценке пациентов с когнитивными нарушениями.
Общий тау-белок
Результаты первого исследования, в котором был успешно проведён анализ общего t-tau в ЦСЖ, опубликованы в 1995 г. и показали, что концентрация t-tau была значительно выше у пациентов с БА по сравнению с пациентами с другими нейродегенеративными расстройствами и контрольной группой [64]. Полученные результаты с тех пор были воспроизведены в сотнях других исследований [65]. Однако в дальнейшем было показано, что выявление повышенных уровней t-tau в ЦСЖ характерно также для некоторых остро развивающихся состояний (инсульт [66], черепно-мозговая травма [67], энцефалопатия Вернике [68]), а также для быстро прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний (болезнь Крейтцфельда–Якоба [69]). На основании полученных данных уровень t-tau предлагается использовать в качестве маркера активности нейродегенеративного процесса или тяжести острого повреждения нейронов головного мозга [70]. У пациентов с БА более высокие уровни t-tau могут предсказывать более быстрое клиническое прогрессирование заболевания [71].
Фосфорилированный тау-белок
Тау-белок подвергается множественным посттрансляционным модификациям, таким как гликозилирование [72], гликирование (неферментативное гликозилирование) [73], фосфорилирование и др. Фосфорилирование является основной модификацией, а его степень регулирует биологическую активность белка тау [74]. В норме фосфорилированию подвергаются более 30 разных сайтов белка в положении серина, треонина или пролина [75]. Данные модификации могут контролировать нормальные биологические функции тау, такие как регуляция стабильности микротрубочек, а также приводить к развитию патологических процессов, связанных со способностью белка к самосборке в нейрональные нити, обнаруживаемые при нейродегенеративных заболеваниях [76].
Фосфорилированный по треонину в положении 181 тау-белок (p-tau181) в ЦСЖ является наиболее детально изученной формой p-tau как биомаркера БА, используемой в современной диагностике заболевания [77]. Данный биомаркер (в сочетании с Aβ1-42) позволяет точно отличить пациентов с БА от здоровых индивидуумов, а также предсказать когнитивное снижение на доклинических и продромальных стадиях заболевания [78]. Уровни p-tau181 достоверно выше при БА по сравнению с другими тау-патиями, включая ЛВД, прогрессирующий надъядерный паралич и кортикобазальную дегенерацию; следовательно, этот показатель может помочь в дифференциальной диагностике деменции при данных состояниях [57, 79, 80].
В последние годы большое внимание уделяется изучению уровней тау, фосфорилированного по положениям 217 (p-tau217) и 231 (p-tau231). Например, показано, что повышенный уровень p-tau217 в ЦСЖ является наиболее специфичным для выявления как доклинических, так и продвинутых форм БА [81]. Концентрации p-tau217 в ЦСЖ у пациентов с продромальной стадией и деменцией при БА были в несколько раз выше, чем концентрации p-tau181 у тех же пациентов [82]. Превосходство p-tau217 над p-tau181 также продемонстрировано в работах, показывающих более сильные корреляции p-tau217 с показателями амилоидной нагрузки по данным ПЭТ [83].
Для p-tau231 показана наибольшая чувствительность к самым ранним проявлениям амилоидной патологии в медиальной орбитофронтальной коре, предклинье и задней поясной коре до достижения «порога» патологического накопления лигандов к амилоиду по данным ПЭТ [84]. Считается, что данный биомаркер первым достигает диагностически значимых аномальных значений в дебюте заболевания [85] и может быть ключевым для идентификации недавно описанной «предамилоидной фазы» БА [86], которая имеет место ещё до выявления патологического накопления Aβ по данным ПЭТ. Предполагается, что повышение уровня p-tau231 в ЦСЖ возникает во время фазы «задержки агрегации» белка Аβ в головном мозге, о чём свидетельствуют более сильные корреляции уровня p-tau231 в ЦСЖ и амилоидной нагрузки по данным ПЭТ у лиц без клинически выявленных когнитивных нарушений [84].
Маркеры нейродегенерации и активации микроглии
Несмотря на то, что отличительной патологической особенностью БА является образование в мозге белковых агрегатов Аβ и тау, описаны также характерные нейровоспалительные реакции, происходящие в поражённых областях головного мозга, которые приводят к нейрональной дисфункции, гибели нейронов и утрате синапсов [87]. Дальнейшее исследование разнообразных патогенетических механизмов БА необходимо для определения альтернативных путей терапевтического воздействия.
Накопленные в последние несколько лет данные свидетельствуют о связи синаптической потери при БА с нейрогранином (Ng) — нейрон-специфичным постсинаптическим белком, который обильно экспрессируется в головном мозге, особенно в дендритах нейронов гиппокампа и коры [88]. Он связывается с кальмодулином при низких концентрациях ионов кальция и, посредством модуляции Ca2+/кальмодулин-зависимых путей, регулирует синаптическую пластичность нейронов, а также участвует в долгосрочной потенциации, важной для процессов обучения и памяти [89]. Для пациентов с БА характерно повышение концентрации Ng в ликворе, которое постепенно нарастает по мере снижения когнитивных функций и отрицательно коррелирует с показателями по Краткой шкале оценки психического статуса, вероятно, отражая синаптическое повреждение в связи с агрегацией Aβ с накоплением бляшек [90, 91]. Некоторые авторы сообщают о значительном повышении уровня Ng в ЦСЖ при БА по сравнению с деменцией с тельцами Леви, ЛВД и боковым амиотрофическим склерозом [92], тогда как другие исследователи заявляют лишь о высокой корреляции его концентрации с уровнями t-tau и p-tau181 в ЦСЖ [93]. В связи с вышесказанным ценность исследования уровня Ng в ЦСЖ остаётся спорной.
Лёгкие цепи нейрофиламентов (neurofilament-light chain, NfL) являются каркасными белками цитоскелета нейронов и играют важную роль в разветвлении и росте аксонов и дендритов. При повреждении аксонов уровни NfL в ЦСЖ повышаются, что позволяет считать их биомаркером аксонального повреждения и нейродегенерации [94]. В последние годы значительно возросло использование данного биомаркера для оценки прогрессирования различных неврологических заболеваний, включая БА [95]. Повышенные уровни NfL в ЦСЖ также выявляются у когнитивно здоровых людей с атрофией гиппокампа по данным нейровизуализации [96] и на доклинических стадиях БА [97, 98]. В продольных исследованиях у пациентов с БА показано, что увеличение концентрации NfL в ЦСЖ связано с бóльшим темпом нарастания атрофии головного мозга и когнитивного снижения; следовательно, более высокие уровни NfL на ранних клинических стадиях БА могут, по-видимому, предсказывать более быструю конверсию в деменцию [99]. Однако специфичность данного биомаркера при БА низкая, так как наиболее высокие его уровни выявляются при других нейрогенеративных заболеваниях, таких как боковой амиотрофический склероз, ЛВД, кортикобазальная дегенерация и прогрессирующий надъядерный паралич [100].
Патологический процесс при БА также сопровождается реактивным астроглиозом, характеризующимся морфологическим, молекулярным и функциональным ремоделированием астроцитов [101]. Глиальный фибриллярный кислый белок (glial fibrillary acidic protein, GFAP) — это белок, принадлежащий к группе промежуточных филаментов III типа, который экспрессируется в ЦНС преимущественно астроцитами [102]. На животных моделях показана высокая экспрессия GFAP в астроцитах гиппокампа, мозолистого тела и ножек мозга [103]. Его экспрессия значительно повышается при нейродегенеративных заболеваниях, включая БА, что отражает процессы нейровоспаления и активации астроцитов [104]. При БА повышение уровня GFAP в ЦСЖ является потенциальным индикатором прогрессирующих когнитивных нарушений: показано увеличение его концентрации по мере нарастания степени когнитивного дефицита [105]. Однако данные изменения не являются специфичными для БА, так как повышение уровня GFAP описано также при нарастании когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона, ЛВД, рассеянным склерозом и другими неврологическими заболеваниями [106].
Данные биомаркеры изучаются в научных целях, однако в реальной клинической практике они пока не используются ввиду недостаточной их специфичности для диагностики БА.
Применение ликворных биомаркеров БА в неврологической клинике
Как было отмечено выше, согласно рекомендациям по диагностике БА Международной рабочей группы (2021 г.), диагноз БА требует наличия как специфического клинического фенотипа, так и подтверждения биологической природы заболевания на основании исследования биомаркеров [6]. В данных рекомендациях фенотипы, ассоциированные с БА, разделены на две группы: распространённые и редкие. Основные клинические фенотипы БА включают классический амнестический (гиппокампальный) вариант заболевания, заднюю корковую атрофию и логопенический вариант первичной прогрессирующей афазии. К редким фенотипам отнесены лобный (поведенческий/дисрегуляторный) вариант, кортикобазальный синдром, семантический и аграмматический виды первично-прогрессирующих афазий. На основании комбинации клинического фенотипа и результатов исследования основных биомаркеров (в ЦСЖ или по данным ПЭТ) предложено установление степени вероятности БА как первичного диагноза. Диагноз БА ранжирован на «установленный», «вероятный» и «возможный», в дополнение к которым выделяют категории «маловероятный» и «исключённый». Для спорных случаев предложены рекомендации по дообследованию пациентов (табл. 1).
Таблица 1. Клинические рекомендации Международной рабочей группы от 2021 г. для установления диагноза БА
Профиль биомаркеров | Вероятность БА в качестве | Дальнейшее обследование |
Распространённые при БА клинические фенотипы | ||
Амилоид — положительный, тау — положительный | Крайне вероятная — установленная | Не требуется |
Амилоид — положительный, тау — неизвестен | Вероятная | Рассмотреть возможность исследования |
Амилоид — положительный, тау — отрицательный | Вероятная | Рассмотреть возможность дополнительных |
Тау — положительный, амилоид — неизвестен | Возможная | Рассмотреть возможность исследования |
Тау — положительный, амилоид — отрицательный | Возможная | Рассмотреть возможность дополнительных |
Амилоид — отрицательный, тау — неизвестен | Маловероятная | Дальнейший поиск причины болезни; |
Амилоид — неизвестен, тау — отрицательный | Маловероятная | Дальнейший поиск причины и рассмотреть |
Амилоид — отрицательный, тау — отрицательный | Крайне маловероятная (исключена) | Дальнейший поиск причины*⛛ |
Амилоид — неизвестен, тау — неизвестен | Не подлежит оценке | Рассмотреть вопрос исследования |
Редкие при БА клинические фенотипы | ||
Амилоид — положительный, тау — положительный | Вероятная | Не требуется. Необходимо тщательное |
Амилоид — положительный, тау — неизвестен | Возможная | Рассмотреть возможность исследования |
Амилоид — положительный, тау — отрицательный | Возможная | Рассмотреть возможность дополнительных |
Тау — положительный, амилоид — неизвестен | Маловероятная | Дальнейший поиск причины; рассмотреть |
Тау — положительный, амилоид — отрицательный | Маловероятная | Дальнейший поиск причины* |
Амилоид — отрицательный, тау — неизвестен | Крайне маловероятная (исключена) | Дальнейший поиск причины*⛛ |
Амилоид — отрицательный, тау — отрицательный | Крайне маловероятная (исключена) | Дальнейший поиск причины*⛛ |
Амилоид — неизвестен, тау — отрицательный | Крайне маловероятная (исключена) | Дальнейший поиск причины*⛛ |
Амилоид — неизвестен, тау — неизвестен | Не подлежит оценке | Дальнейший поиск причины; |
Примечание. *Полное исследование причины зависит от конкретного клинического фенотипа и может подразумевать, например, ПЭТ с 18-фтордезоксиглюкозой, визуализацию транспортера дофамина при однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, исследование програнулина в сыворотке крови, молекулярно-генетическое тестирование, видеонистагмографию или электронейромиографию.
⛛Рассмотреть вопрос о новом исследовании биомаркеров заболевания только в том случае, если есть обоснованные сомнения в достоверности результатов оценки биомаркеров.
Заключение
Ключевыми ликворными биомаркерами, включёнными в международные рекомендации для диагностики БА в клинических условиях (так называемый золотой стандарт), признаны Aβ1-42, соотношение Aβ1-42/Aβ1-40 и p-tau181. Исследование уровня t-tau в ЦСЖ может быть использовано для оценки активности нейродегенеративного процесса и прогнозирования клинического ухудшения. Новые биомаркеры тау-патологии (включая исследование уровня p-tau217 и p-tau231 в ЦСЖ) также могут быть использованы в диагностике БА, поскольку сочетают в себе высокую чувствительность и специфичность даже на досимптомных стадиях заболевания. Целесообразность клинического применения маркеров нейродегенерации и активации астроглии (Ng, NfL, GFAP) требует дальнейшего обсуждения, поэтому в настоящее время их использование рационально лишь в исследовательских целях.
Расширение доступности ликворных биомаркеров в клинической практике в России позволит оценить реальную распространённость БА в российской популяции, а также отбирать пациентов для таргетной патогенетической терапии заболевания, активно разрабатываемой в последние годы.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешних источников финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов: Невзорова К.В. — создание концепции исследования, сбор и обработка материала, написание текста; Шпилюкова Ю.А. — создание концепции исследования, редактирование; Шабалина А.А. — курирование данных, редактирование; Федотова Е.Ю. — создание концепции исследования, доработка и редактирование рукописи; Иллариошкин С.Н. — курирование данных, доработка и редактирование рукописи. Все авторы прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.
Author contribution: Nevzorova K.V. — creation of a research concept, collection and processing of material, writing a text of article; Shpilyukova Yu.A. — creation of a research concept, editing; Shabalina A.A. — data curation, editing; Fedotova E.Yu. — creation of a research concept, revision and editing of the manuscript; Illarioshkin S.N. — data curation, revision and editing of the manuscript. All authors read and approved the final version before publication.
Об авторах
Ксения Васильевна Невзорова
Российский центр неврологии и нейронаук
Автор, ответственный за переписку.
Email: nevzorova.k.v@neurology.ru
ORCID iD: 0009-0000-9148-0203
аспирант, врач-невролог 5-го неврологического отделения с молекулярно-генетической лабораторией Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Юлия Александровна Шпилюкова
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: nevzorova.k.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0001-7214-583X
кандидат медицинских наук, н. с. 5-го неврологического отделения с молекулярно-генетической лабораторией Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Алла Анатольевна Шабалина
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: nevzorova.k.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0001-7393-0979
доктор медицинских наук, в. научный сотрудник, руководитель отдела лабораторной диагностики
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Екатерина Юрьевна Федотова
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: nevzorova.k.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0001-8070-7644
доктор медицинских наук, в. научный сотрудник, руководитель 5-го неврологического отделения с молекулярно-генетической лабораторией Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Сергей Николаевич Иллариошкин
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: nevzorova.k.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0002-2704-6282
доктор медицинских наук, проф., акад. РАН, зам. директора по научной работе, директор Института мозга
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Список литературы
- Weller J, Budson A. Current understanding of Alzheimer’s disease diagnosis and treatment. F1000Res. 2018;7:F1000 Faculty Rev-1161. doi: 10.12688/f1000research.14506.1
- Duyckaerts C, Delatour B, Potier MC. Classification and basic pathology of Alzheimer disease. Acta Neuropathol. 2009;118(1):5–36. doi: 10.1007/s00401-009-0532-1
- Васенина Е.Е., Левин О.С., Сонин А.Г. Современные тенденции в эпидемиологии деменции и ведении пациентов с когнитивными нарушениями. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017;117(6-2):87–95. Vasenina EE, Levin OS, Sonin AG. Modern trends in epidemiology of dementia and management of patients with cognitive impairment. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2017;117(6-2):87–95. doi: 10.17116/jnevro20171176287-95
- Коберская Н.Н. Болезнь Альцгеймера. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(3S):52–60. Koberskaya NN. Alzheimer’s disease. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2019;11(3S):52–60. doi: 10.14412/2074-2711-2019-3S-52-60
- Преображенская И.С. Современные подходы к диагностике и лечению болезни Альцгеймера. Медицинский cовет. 2017;(10):26–31. Preobrazhenskaya IS. Modern approaches to diagnostics and therapy of Alzheimer disease. Medical Council. 2017;(10):26–31. doi: 10.21518/2079-701X-2017-10-26-31
- Dubois B., Villain N, Frisoni GB, et al. Clinical diagnosis of Alzheimer’s disease: recommendations of the Intenational Working Group. Lancet Neurol. 2021;20(6):484–496. doi: 10.1016/S1474-4422(21)00066-1
- Таппахов А.А., Николаева Т.Я., Попова Т.Е., Шнайдер Н.А. Трудности диагностики атипичных вариантов болезни Альцгеймера. Российский неврологический журнал. 2021;26(5):16–23. Tappakhov AA, Nikolaeva TYa, Popova TE, Shnayder NA. Difficulties in diagnosing atypical variants of Alzheimer’s disease. Russian neurological journal. 2021;26(5):16–23. doi: 10.30629/2658-7947-2021-26-5-16-23
- Шпилюкова Ю.А., Шабалина А.А., Ахмадуллина Д.Р., Федотова Е.Ю. Опыт использования лабораторных биомаркеров в диагностике нейродегенеративных деменций. Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. 2022;(2):227–230. Shpilyukova YuA, Shabalina AA, Akhmadullina DR, Fedotova EYu. The experience of using laboratory biomarkers in the diagnosis of neurodegenerative dementia. Bulletin of the National Society for the Study of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 2022;(2):227–230. doi: 10.24412/2226-079X-2022-12474
- Nevzorova K, Shpilyukova Y, Shabalina A, et al. Biomarkers of Alzheimer’s disease pathology in atypical non-amnestic clinical phenotypes. Alzheimers Dement., 2023;19(S15):e076010. doi: 10.1002/alz.076010
- Гришина Д.А., Хаялиева Н.А., Гринюк В.В., Тюрина А.Ю. Диагностика болезни Альцгеймера с использованием биологических маркеров при синдроме задней корковой атрофии. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2024;16(2):47–55. Grishina DA, Khayalieva NA, Grinyuk VV, Tyurina AYu. Diagnosis of Alzheimer’s disease by using biological markers in posterior cortical atrophy. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2024;16(2):47–53. doi: 10.14412/2074-2711-2024-2-47-53
- Alzheimer A. Uber eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie und Psychisch-gerichtliche Medizin. 1907;64:146–148.
- Kang J, Lemaire HG, Unterbeck A, et al. The precursor of Alzheimer’s disease amyloid A4 protein resembles a cell-surface receptor. Nature. 1987;325(6106):733–736. doi: 10.1038/325733a0
- Hardy JA, Higgins GA. Alzheimer’s disease: the amyloid cascade hypothesis. Science. 1992;256(5054):184–185. doi: 10.1126/science.1566067
- Nalivaeva NN, Turner AJ. The amyloid precursor protein: a biochemical enigma in brain development, function and disease. FEBS Lett. 2013;587(13):2046–2054. doi: 10.1016/j.febslet.2013.05.010
- Литвиненко И.В., Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю. и др. Амилоидная гипотеза болезни Альцгеймера: прошлое и настоящее, надежды и разочарования. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(3):4–10. Litvinenko IV, Emelin AYu, Lobzin VYu, et al. The amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease: past and present, hopes and disappointments. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2019;11(3):4–10. doi: 10.14412/2074-2711-2019-3-4-10
- Molinuevo JL, Ayton S, Batrla R, et al. Current state of Alzheimer’s fluid biomarkers. Acta Neuropathol. 2018;136(6):821–853. doi: 10.1007/s00401-018-1932-x
- Стефанова Н.А., Колосова Н.Г. Эволюция представлений о патогенезе болезни Альцгеймера. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2016;(1):6–13. Stefanova NA, Kolosova NG. Evolution of understanding of Alzheimer’s disease pathogenesis. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya. 2016;(1):6–13.
- Кухарский М.С., Овчинников Р.К., Бачурин С.О. Молекулярные аспекты патогенеза и современные подходы к фармакологической коррекции болезни Альцгеймера. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015;115(6):103–114. Kukharskiĭ MS, Ovchinnikov RK, Bachurin SO. Molecular aspects of the pathogenesis and current approaches to pharmacological correction of Alzheimer’s disease. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2015;115(6):103–114. doi: 10.17116/jnevro20151156103-114
- Lee JC, Kim SJ, Hong S, Kim Y. Diagnosis of Alzheimer’s disease utilizing amyloid and tau as fluid biomarkers. Exp Mol Med. 2019;51(5):1–10. doi: 10.1038/s12276-019-0250-2
- Glenner GG, Wong CW. Alzheimer’s disease and Down’s syndrome: sharing of a unique cerebrovascular amyloid fibril protein. Biochem Biophys Res Commun. 1984;122(3):1131–1135. doi: 10.1016/0006-291x(84)91209-9
- Scheuner D, Eckman C, Jensen M, et al. Secreted amyloid β-protein similar to that in the senile plaques of Alzheimer’s disease is increased in vivo by the Presenilin 1 and 2 and APP mutations linked to familial Alzheimer’s disease. Nat Med. 1996;2(8):864–870. doi: 10.1038/nm0896-864
- Weller RO, Massey A, Kuo YM, Roher AE. Cerebral amyloid angiopathy: accumulation of A-beta in interstitial fluid drainage pathways in Alzheimer’s disease. Ann N Y Acad Sci. 2000;903:110–117. doi: 10.1111/j.1749-6632.2000.tb06356.x
- Mawuenyega KG, Sigurdson W, Ovod V, et al. Decreased clearance of CNS beta-amyloid in Alzheimer’s disease. Science. 2010;330(6012):1774. doi: 10.1126/science.1197623
- Yoon SS, Jo SA. Mechanisms of amyloid-β peptide clearance: potential therapeutic targets for Alzheimer’s disease. Biomol Ther (Seoul). 2012;20(3):245–255. doi: 10.4062/biomolther.2012.20.3.245
- Wyss-Coray T, Loike JD, Brionne TC, et al. Adult mouse astrocytes degrade amyloid-beta in vitro and in situ. Nat Med. 2003;9(4):453–457. doi: 10.1038/nm838
- Shibata M, Yamada S, Kumar SR, et al. Clearance of Alzheimer’s amyloid-ss(1-40) peptide from brain by LDL receptor-related protein-1 at the blood-brain barrier. J Clin Invest. 2000;106(12):1489–1499. doi: 10.1172/JCI10498
- Shirotani K, Tsubuki S, Iwata N, et al. Neprilysin degrades both amyloid peptides 1-40 and 1-42 most rapidly and efficiently among thiorphan- and phosphoramidon-sensitive endopeptidases. J Biol Chem. 2001;276(24):21895–21901. doi: 10.1074/jbc.M008511200
- Chesneau V, Vekrellis K, Rosner MR, Selkoe DJ. Purified recombinant insulin-degrading enzyme degrades amyloid beta-protein but does not promote its oligomerization. Biochem J. 2000;351(Pt 2):509–516.
- Yin KJ, Cirrito JR, Yan P, et al. Matrix metalloproteinases expressed by astrocytes mediate extracellular amyloid-beta peptide catabolism. J Neurosci. 2006;26(43):10939–10948. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2085-06.2006
- Kim MJ, Chae SS, Koh YH, et al. Glutamate carboxypeptidase II: an amyloid peptide-degrading enzyme with physiological function in the brain. FASEB J. 2010;24(11):4491–4502. doi: 10.1096/fj.09-148825
- Hensley K, Hall N, Subramaniam R, et al. Brain regional correspondence between Alzheimer’s disease histopathology and biomarkers of protein oxidation. J Neurochem. 1995;65(5):2146–2156. doi: 10.1046/j.1471-4159.1995.65052146.x
- Scheff SW, Price DA, Schmitt FA, Mufson EJ. Hippocampal synaptic loss in early Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Neurobiol Aging. 2006;27(10):1372–1384. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2005.09.012
- Григорьева В.Н., Машкович К.А. Ликворологические биомаркеры болезни Альцгеймера (обзор). Медицинский альманах. 2021;2(67):22–32. Grigoreva VN, Mashkovich KA. Cerebrospinal fluid biomarkers of Alzheimer’s disease (review). Medicinskij alʹmanah. 2021;2(67):22–32.
- Schöll M, Lockhart SN, Schonhaut DR, et al. PET imaging of Tau deposition in the aging human brain. Neuron. 2016;89(5):971–982. doi: 10.1016/j.neuron.2016.01.028
- Ossenkoppele R, Schonhaut DR, Schöll M, et al. Tau PET patterns mirror clinical and neuroanatomical variability in Alzheimer’s disease. Brain. 2016;139(Pt 5):1551–1567. doi: 10.1093/brain/aww027
- Zhang CC, Xing A, Tan MS, et al. The role of MAPT in neurodegenerative diseases: genetics, mechanisms and therapy. Mol Neurobiol. 2016;53(7):4893–4904. doi: 10.1007/s12035-015-9415-8
- Абдуллаева Н., Алиева Г. Взаимосвязь тау-белка с патологией болезни Альцгеймера. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2021;63-1:9–12. Abdullayeva N, Aliyeva G. The relationship of tau-protein with the pathology of Alzheimer’s disease. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2021;63-1:9–12. doi: 10.24412/3453-9875-2021-63-1-9-12
- Alonso A, Zaidi T, Novak M, et al. Hyperphosphorylation induces self-assembly of tau into tangles of paired helical filaments/straight filaments. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98(12):6923–6928. doi: 10.1073/pnas.121119298
- Jin M, Shepardson N, Yang T, et al. Soluble amyloid beta-protein dimers isolated from Alzheimer cortex directly induce Tau hyperphosphorylation and neuritic degeneration. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108(14):5819–5824. doi: 10.1073/pnas.1017033108
- Counts SE, Ikonomovic MD, Mercado N, et al. Biomarkers for the early detection and progression of Alzheimer’s disease. Neurotherapeutics. 2017;14(1):35–53. doi: 10.1007/s13311-016-0481-z
- Van Harten AC, Wiste HJ, Weigand SD, et al. Detection of Alzheimer’s disease amyloid beta 1-42, p-tau, and t-tau assays. Alzheimers Dement. 2022;18(4):635–644. doi: 10.1002/alz.12406
- Frederiksen KS, Nielsen TR, Appollonio I, et al. Biomarker counseling, disclosure of diagnosis and follow-up in patients with mild cognitive impairment: a European Alzheimer’s disease consortium survey. Int J Geriatr Psychiatry. 2021;36(2):324–333. doi: 10.1002/gps.5427
- Vlassenko AG, McCue L, Jasielec MS, et al. Imaging and cerebrospinal fluid biomarkers in early preclinical Alzheimer disease. Ann Neurol. 2016;80(3):379–387. doi: 10.1002/ana.24719
- Stomrud E, Minthon L, Zetterberg H, et al. Longitudinal cerebrospinal fluid biomarker measurements in preclinical sporadic Alzheimer’s disease: a prospective 9-year study. Alzheimers Dement (Amst). 2015;1(4):403–411. doi: 10.1016/j.dadm.2015.09.002
- Shaw LM, Vanderstichele H, Knapik-Czajka M, et al. Cerebrospinal fluid biomarker signature in Alzheimer’s disease neuroimaging initiative subjects. Ann Neurol. 2009;65(4):403–413. doi: 10.1002/ana.21610
- Palmqvist S, Mattsson N, Hansson O. Cerebrospinal fluid analysis detects cerebral amyloid-β accumulation earlier than positron emission tomography. Brain. 2016;139(Pt 4):1226–1236. doi: 10.1093/brain/aww015
- Skoog I, Davidsson P, Aevarsson O. et al. Cerebrospinal fluid beta-amyloid 42 is reduced before the onset of sporadic dementia: a population-based study in 85-year-olds. Dement Geriatr Cogn Disord. 2003;15(3):169–176. doi: 10.1159/000068478
- Kuhlmann J, Andreasson U, Pannee J, et al. CSF Aβ1-42 — an excellent but complicated Alzheimer’s biomarker — a route to standardisation. Clin Chim Acta. 2017;467:27–33. doi: 10.1016/j.cca.2016.05.014
- Gravina SA, Ho L, Eckman CB, et al. Amyloid beta protein (A beta) in Alzheimer’s disease brain. Biochemical and immunocytochemical analysis with antibodies specific for forms ending at A beta 40 or A beta 42(43). J Biol Chem. 1995;270(13):7013–7016. doi: 10.1074/jbc.270.13.7013
- Leissring MA, Farris W, Chang AY, et al. Enhanced proteolysis of beta-amyloid in APP transgenic mice prevents plaque formation, secondary pathology, and premature death. Neuron. 2003;40(6):1087–1093. doi: 10.1016/s0896-6273(03)00787-6
- Wegiel J, Wang KC, Imaki H, et al. The role of microglial cells and astrocytes in fibrillar plaque evolution in transgenic APP(SW) mice. Neurobiol Aging. 2001;22(1):49–61. doi: 10.1016/s0197-4580(00)00181-0
- Wilhelmus MM, Otte-Höller I, van Triel JJ, et al. Lipoprotein receptor-related protein-1 mediates amyloid-beta-mediated cell death of cerebrovascular cells. Am J Pathol. 2007;171(6):1989–1999. doi: 10.2353/ajpath.2007.070050
- Spies PE, Verbeek MM, Van Groen T, Claassen J. Reviewing reasons for the decreased CSF Abeta42 concentration in Alzheimer disease. Front Biosci (Landmark Ed). 2012;17(6), 2024–2034. doi: 10.2741/4035
- Bjerke M, Andreasson U, Rolstad S, et al. Subcortical vascular dementia biomarker pattern in mild cognitive impairment. Dement Geriar Cogn Disord. 2009;28(4):348–356. doi: 10.1159/000252773
- Slaets S, Le Bastard N, Theuns J, et al. Amyloid pathology influences aβ1-42 cerebrospinal fluid levels in dementia with Lewy bodies. J Alzheimers Dis. 2013;35(1):137–146. doi: 10.3233/JAD-122176
- Dorey A, Tholance Y, Vighetto A, et al. Association of cerebrospinal fluid prion protein levels and the distinction between Alzheimer disease and Creutzfeldt–Jakob disease. JAMA Neurol. 2015;72(3):267–275. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.4068
- Koopman K, Le Bastard N, Martin JJ, et al. Improved discrimination of autopsy-confirmed Alzheimer’s disease (AD) from non-AD dementias using CSF P-tau (181P). Neurochem Int. 2009;55(4):214–218. doi: 10.1016/j.neuint.2009.02.017
- Sehlin D, Englund H, Simu B, et al. Large aggregates are the major soluble Aβ species in AD brain fractionated with density gradient ultracentrifugation. PLoS One. 2012;7(2):e32014. doi: 10.1371/jurnal.pone.0032014
- Dorey A, Perret-Liaudet A, Tholance Y, et al. Cerebrospinal fluid Aβ40 improves the interpretation of Aβ42 concentration for diagnosing Alzheimer’s disease. Front Neurol. 2015;6:247. doi: 10.3389/fneur.2015.00247
- Kanai M, Matsubara E, Isoe K, et al. Longitudinal study of cerebrospinal fluid levels of tau, A beta1-40, and A beta1-42(43) in Alzheimer’s disease: a study in Japan. Ann Neurol. 1998;44(1):17–26. doi: 10.1002/ana.410440108
- Dumurgier J, Schraen S, Gabelle A, et al. Cerebrospinal fluid amyloid-β 42/40 ratio in clinical setting of memory centers: a multicentric study. Alzheimers Res Ther. 2015;7(1):30. doi: 10.1186/s13195-015-0114-5
- Delaby C, Estellés T, Zhu N, et al. The Aβ1-42/Aβ1-40 ratio in CSF is more strongly associated to tau markers and clinical progression than Aβ1-42 alone. Alzheimers Res Ther. 2022;14(1):20. doi: 10.1186/s13195-022-00967-z
- Baldeiras I, Santana I, Leitão MJ, et al. Addition of the Aβ42/40 ratio to the cerebrospinal fluid biomarker profile increases the predictive value for underlying Alzheimer’s disease dementia in mild cognitive impairment. Alz Res Therapy. 2018;10(1):33. doi: 10.1186/s13195-018-0362-2
- Arai H, Terajima M, Miura M, et al. Tau in cerebrospinal fluid: a potential diagnostic marker in Alzheimer’s disease. Ann Neurol. 1995;38(4):649–652. doi: 10.1002/ana.410380414
- Olsson B, Lautner R, Andreasson U, et al. CSF and blood biomarkers for the diagnosis of Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2016;15(7):673–684. doi: 10.1016/S1474-4422(16)00070-3
- Hesse C, Rosengren L, Andreasen N, et al. Transient increase in total tau but not phospho-tau in human cerebrospinal fluid after acute stroke. Neurosci Lett. 2001;297(3):187–190. doi: 10.1016/s0304-3940(00)01697-9
- Zetterberg H, Hietala MA, Jonsson M, et al. Neurochemical aftermath of amateur boxing. Arch Neurol. 2006;63(9):1277–1280. doi: 10.1001/archneur.63.9.1277
- Matsushita S, Miyakawa T, Maesato H, et al. Elevated cerebrospinal fluid tau protein levels in Wernicke’s encephalopathy. Alcohol Clin Exp Res. 2008;32(6):1091–1095. doi: 10.1111/j.1530-0277.2008.00671.x
- Skillbäck T, Rosén C, Asztely F, et al. Diagnostic performance of cerebrospinal fluid total tau and phosphorylated tau in Creutzfeldt–Jakob disease: results from the Swedish Mortality Registry. JAMA Neurol. 2014;71(4):476–483. doi: 10.1001/jamaneurol.2013.6455
- Blennow K, Wallin A, Agren H, et al. Tau protein in cerebrospinal fluid: a biochemical marker for axonal degeneration in Alzheimer disease? Mol Chem Neuropathol. 1995;26(3):231–245. doi: 10.1007/BF02815140
- Wallin AK, Blennow K, Zetterberg H, et al. CSF biomarkers predict a more malignant outcome in Alzheimer disease. Neurology. 2010;74(19):1531–1537. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181dd4dd8
- Wang JZ, Grundke-Iqbal I, Iqbal K. Glycosylation of microtubule-associated protein tau: an abnormal posttranslational modification in Alzheimer’s disease. Nat Med. 1996;2(8):871–875. doi: 10.1038/nm0896-871
- Liu F, Iqbal K, Grundke-Iqbal I, et al. O-GlcNAcylation regulates phosphorylation of tau: a mechanism involved in Alzheimer’s disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(29):10804–10809. doi: 10.1073/pnas.0400348101
- Chung SH. Aberrant phosphorylation in the pathogenesis of Alzheimer’s disease. BMB Rep. 2009;42(8):467–474. doi: 10.5483/bmbrep.2009.42.8.467
- Billingsley ML, Kincaid RL. Regulated phosphorylation and dephosphorylation of tau protein: effects on microtubule interaction, intracellular trafficking and neurodegeneration. Biochem J. 1997;323(Pt 3):577–591. doi: 10.1042/bj3230577
- Pîrşcoveanu DFV, Pirici I, Tudorică V, et al. Tau protein in neurodegenerative diseases — a review. Rom J Morphol Embryol. 2017;58(4):1141–1150.
- Holper S, Watson R, Yassi N. Tau as a biomarker of neurodegeneration. Int J Mol Sci. 2022;23(13):7307. doi: 10.3390/ijms23137307
- Vos SJ, Xiong C, Visser PJ, et al. Preclinical Alzheimer’s disease and its outcome: a longitudinal cohort study. Lancet Neurol. 2013;12(10):957–965. doi: 10.1016/S1474-4422(13)70194-7
- Schoonenboom NS, Reesink FE, Verwey NA, et al. Cerebrospinal fluid markers for differential dementia diagnosis in a large memory clinic cohort. Neurology. 2012;78(1):47–54. doi: 10.1212/WNL.0b013e31823ed0f0
- Lleó A, Irwin DJ, Illán-Gala I, et al. A 2-Step cerebrospinal algorithm for the selection of frontotemporal lobar degeneration subtypes. JAMA Neurol. 2018;75(6):738–745. doi: 10.1001/jamaneurol.2018.0118
- Barthélemy NR, Bateman RJ, Hirtz C, et al. Cerebrospinal fluid phospho-tau T217 outperforms T181 as a biomarker for the differential diagnosis of Alzheimer’s disease and PET amyloid-positive patient identification. Alzheimers Res Ther. 2020;12(1):26. doi: 10.1186/s13195-020-00596-4
- Leuzy A, Janelidze S, Mattsson-Carlgren N, et al. Comparing the clinical utility and diagnostic performance of CSF P-Tau181, P-Tau217, and P-Tau231 assays. Neurology. 2021;97(17):e1681–e1694. doi: 10.1212/WNL.0000000000012727
- Janelidze S, Stomrud E, Smith R, et al. Cerebrospinal fluid p-tau217 performs better than p-tau181 as a biomarker of Alzheimer’s disease. Nat Commun. 2020;11(1):1683. doi: 10.1038/s41467-020-15436-0
- Ashton NJ, Benedet AL, Pascoal TA, et al. Cerebrospinal fluid p-tau231 as an early indicator of emerging pathology in Alzheimer’s disease. EBioMedicine. 2022;76:103836. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.103836
- Ercan-Herbst E, Ehrig J, Schöndorf DC, et al. A post-translational modification signature defines changes in soluble tau correlating with oligomerization in early stage Alzheimer’s disease brain. Acta Neuropathol Commun. 2019;7(1):192. doi: 10.1186/s40478-019-0823-2
- Uhlmann RE, Rother C, Rasmussen J, et al. Acute targeting of pre-amyloid seeds in transgenic mice reduces Alzheimer-like pathology later in life. Nat Neurosci. 2020;23(12):1580–1588. doi: 10.1038/s41593-020-00737-w
- Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, et al. Inflammation as a central mechanism in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. (N Y). 2018;4:575–590. doi: 10.1016/j.trci.2018.06.014
- Pak JH, Huang FL, Li J, et al. Involvement of neurogranin in the modulation of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, synaptic plasticity, and spatial learning: a study with knockout mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97(21):11232–11237. doi: 10.1073/pnas.210184697
- Huang KP, Huang FL, Jäger T, et al. Neurogranin/RC3 enhances long-term potentiation and learning by promoting calcium-mediated signaling. J Neurosci. 2004;24(47):10660–10669. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2213-04.2004
- Liu W, Lin H, He X, et al. Neurogranin as a cognitive biomarker in cerebrospinal fluid and blood exosomes for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Transl Psychiatry. 2020;10(1):125. doi: 10.1038/s41398-020-0801-2
- Portelius E, Zetterberg H, Skillbäck T, et al. Cerebrospinal fluid neurogranin: relation to cognition and neurodegeneration in Alzheimer’s disease. Brain. 2015;138(Pt 11):3373–3385. doi: 10.1093/brain/awv267
- Portelius E, Olsson B, Höglund K, et al. Cerebrospinal fluid neurogranin concentration in neurodegeneration: relation to clinical phenotypes and neuropathology. Acta Neuropathol. 2018;136(3):363–376. doi: 10.1007/s00401-018-1851-x
- Willemse EAJ, Sieben A, Somers C, et al. Neurogranin as biomarker in CSF is non-specific to Alzheimer’s disease dementia. Neurobiol Aging. 2021;108:99–109. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2021.08.002
- Yuan A, Rao MV, Veeranna RP, Nixon RA. Neurofilaments and neurofilament proteins in health and disease. Cold Spring Harb Perspect. Biol. 2017;9(4):a018309. doi: 10.1101/cshperspect.a018309
- Meeker KL, Butt OH, Gordon BA, et al. Cerebrospinal fluid neurofilament light chain is a marker of aging and white matter damage. Neurobiol Dis. 2022;166:105662. doi: 10.1016/j.nbd.2022.105662
- Idland AV, Sala-Llonch R, Borza T, et al. CSF neurofilament light levels predict hippocampal atrophy in cognitively healthy older adults. Neurobiol Aging. 2017;49:138–144. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.09.012
- Dhiman K, Gupta VB, Villemagne VL, et al. Cerebrospinal fluid neurofilament light concentration predicts brain atrophy and cognition in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement (Amst). 2020;12(1):e12005. doi: 10.1002/dad2.12005
- Dhiman K, Villemagne VL, Fowler C, et al. Cerebrospinal fluid neurofilament light predicts risk of dementia onset in cognitively healthy individuals and rate of cognitive decline in mild cognitive impairment: a prospective longitudinal study. Biomedicines. 2022;10(5):1045. doi: 10.3390/biomedicines10051045
- Lim B, Grøntvedt GR, Bathala P, et al. CSF neurofilament light may predict progression from amnestic mild cognitive impairment to Alzheimer’s disease dementia. Neurobiol Aging. 2021;107:78–85. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2021.07.013
- Delaby C, Alcolea D, Carmona-Iragui M, et al. Differential levels of neurofilament light protein in cerebrospinal fluid in patients with a wide range of neurodegenerative disorders. Sci Rep. 2020;10(1):9161. doi: 10.1038/s41598-020-66090-x
- Benedet AL, Milà-Alomà M, Vrillon A, et al. Differences between plasma and cerebrospinal fluid glial fibrillary acidic protein levels across the Alzheimer disease continuum. JAMA Neurol. 2021;78(12):1471–1483. doi: 10.1001/jamaneurol.2021.3671
- Li D, Liu X, Liu T, et al. Neurochemical regulation of the expression and function of glial fibrillary acidic protein in astrocytes. Glia. 2020;68(5):878–897. doi: 10.1002/glia.23734
- Zhang Z, Ma Z, Zou W, et al. The appropriate marker for astrocytes: comparing the distribution and expression of three astrocytic markers in different mouse cerebral regions. Biomed Res. Int. 2019;2019:9605265. doi: 10.1155/2019/9605265
- Van Hulle C, Jonaitis EM, Betthauser TJ, et al. An examination of a novel multipanel of CSF biomarkers in the Alzheimer’s disease clinical and pathological continuum. Alzheimers Dement. 2021;17(3):431–445. doi: 10.1002/alz.12204
- Fukuyama R, Izumoto T, Fushiki S. The cerebrospinal fluid level of glial fibrillary acidic protein is increased in cerebrospinal fluid from Alzheimer’s disease patients and correlates with severity of dementia. Eur Neurol. 2001;46(1):35–38. doi: 10.1159/000050753
- Heimfarth L, Passos FRS, Monteiro BS, et al. Serum glial fibrillary acidic protein is a body fluid biomarker: a valuable prognostic for neurological disease — a systematic review. Int Immunopharmacol. 2022;107:108624. doi: 10.1016/j.intimp.2022.108624