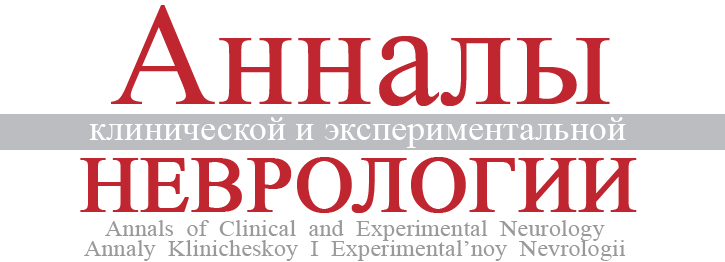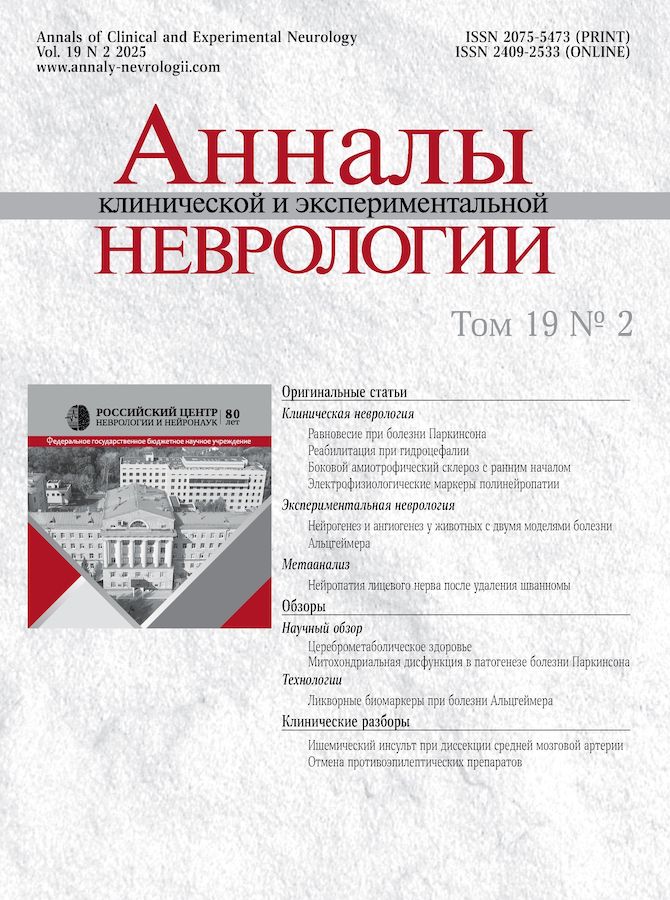Митохондриальная дисфункция в патогенезе болезни Паркинсона: современные представления и потенциальные терапевтические стратегии
- Авторы: Жукова Н.Г.1, Колобовникова Ю.В.1, Сайфитдинхужаев З.Ф.1
-
Учреждения:
- Сибирский государственный медицинский университет
- Выпуск: Том 19, № 2 (2025)
- Страницы: 74-81
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 25.10.2024
- Статья одобрена: 04.12.2024
- Статья опубликована: 26.06.2025
- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1219
- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1219
- EDN: https://elibrary.ru/KHXTLY
- ID: 1219
Цитировать
Аннотация
Болезнь Паркинсона (БП) — прогрессирующее экстрапирамидное заболевание, характеризующееся биодеградацией дофаминергических нейронов чёрной субстанции. Прогнозируется, что общее число пациентов с диагнозом БП к 2030 г. в мире увеличится более чем в 2 раза, что неизбежно приведёт к большой материальной нагрузке на систему здравоохранения. Прогрессирование заболевания характеризуется стойкой дезадаптацией пациентов во всех сферах жизни и, как следствие, потерей человеческих ресурсов. Около 85–90% случаев БП являются спорадическими и имеют мультифакториальную природу. Оставшиеся 10–15% являются семейными формами с традиционными формами наследования. Современные исследования доказывают различные механизмы развития заболевания, однако всё больше данных подтверждают решающую роль митохондриальной дисфункции в развитии БП.
Цель обзора — рассмотреть ключевые патогенетические механизмы митохондриальной дисфункции в контексте патогенеза заболевания. Нами проведён поиск полнотекстовых публикаций на русском и английском языках в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed, Web of Science за последнее 20 лет с использованием ключевых слов и словосочетаний: болезнь Паркинсона, нейродегенерация, патофизиология, митохондриальная дисфункция, биоэнергетика, митофагия, патогенетическая терапия.
В обзоре подробно рассмотрены факторы, индуцирующие митохондриальную дисфункцию, а также влияние митохондриальной дисфункции на развитие БП. Представлены потенциальные терапевтические стратегии, сопряжённые с митохондриальной дисфункцией.
Полный текст
Введение
Болезнь Паркинсона (БП) — одно из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний. Клинические проявления БП включают типичные моторные и немоторные симптомы. Моторными симптомами принято считать тремор покоя, брадикинезию, мышечную ригидность, гипомимию и постуральную неустойчивость. В группу немоторных симптомов входят когнитивные нарушения, гипосмия, инсомнии, запоры, депрессия, которые, как правило, возникают до моторных симптомов в так называемый продромальный период. Установлено, что продромальный период БП длится 5–15 лет [1]. Клинические симптомы БП связаны с гибелью дофаминергических нейронов в компактной части чёрной субстанции среднего мозга, причём моторные симптомы появляются лишь тогда, когда погибло 50–80% дофаминергических нейронов. БП патоморфологически характеризуется накоплением телец Леви — эозинофильных белковых круглых интрацеллюлярных включений, которые в основном состоят из аберрантного α-синуклеина [2]. С учётом увеличения доли пожилых людей, а также улучшения медицинской помощи больным с БП в ближайшие 20–30 лет следует ожидать роста распространённости заболевания. Предполагается, что общая численность больных БП в мире возрастёт с 4,1 млн в 2005 г. до 8,7 млн в 2030 г., что предсказывает надвигающуюся нагрузку на систему здравоохранения многих стран [2]. Заболеваемость, как и распространённость, имеет широкий диапазон показателей. Минимальная заболеваемость выявлена в Карелии (1,88 случаев на 100 тыс. населения в год), максимальная — в Солнечногорском районе Московской области (16,3 случая на 100 тыс. населения в год) [3]. Кроме того, симптоматическая терапия становится всё менее эффективной по мере ухудшения состояния пациентов, и в настоящее время не существует методов лечения, которые могли бы предотвратить начало и прогрессирование заболевания. Важно понимать патогенетическую основу БП, чтобы в ближайшем будущем можно было добиться создания и внедрения в практическую медицину новых высокоэффективных терапевтических стратегий.
БП расценивается как мультисистемное и многофакторное заболевание, которое может быть инициировано различными этиологическими факторами: генетическими, биологическими, экологическими [3]. С точки зрения патофизиологии, семейные формы БП относят к генетическим заболеваниям с Менделевскими законами наследования, а спорадические формы БП, которые составляют 85–90% случаев БП, — к группе мультифакториальных заболеваний, то есть заболеваний с генетической предрасположенностью [4]. В случае спорадических форм имеется определённая генетическая компонента, предрасполагающая к болезни, но её пенетрантность зависит от средовых факторов, которые индуцируют и потенцируют развитие болезни. В последние годы наблюдаются колоссальный рост знаний и формирование различных теорий о молекулярной основе патогенеза БП. Среди патогенетических факторов выделяют нарушение апоптотической и неапоптотической программируемой гибели нервных клеток, аберрантную регуляцию аутофагии, дисфункцию эндоплазматического ретикулума и повышение внутриклеточного кальция. Тем не менее их точный вклад в нейрональную дегенерацию ещё является предметом исследований [5].
В последнее время активно изучается роль митохондрий (МХ) в патогенезе БП. Это обусловлено тем, что нейроны обладают сложной сетью МХ, простирающейся от тел нейронов до концевых терминалей синапса, которые отвечают за передачу и получение информации от других нейронов. С другой стороны, МХ выполняют множество задач, включая генерацию аденозинтрифосфата (АТФ), буферизацию кальция и эпигенетический нейрональный сигналинг. Нейроны отличаются от многих других типов клеток более высокими биоэнергетическими потребностями. В частности, для поддержания ионного гомеостаза им необходима АТФ, которая постоянно расходуется на генерацию трансмембранных ионных потоков, секвестрацию нейротрансмиттера в везикулы, слияние этих везикул во время синаптической активности и обратный захват во время везикулярной рециркуляции, поддержание и восстановление большого пула нейротрансмиттеров. АТФ, необходимая для этих процессов, синтезируется именно в МХ. Поэтому дисфункция МХ рассматривается как неотъемлемый компонент патогенеза БП [6]. В данном обзоре основное внимание уделяется последним достижениям в понимании роли, которую дисфункция МХ играет в патогенезе как спорадической, так и семейной форм БП.
Митохондриальная дисфункция в патогенезе спорадических форм болезни Паркинсона
Цепь переноса электронов в МХ является основным источником активных форм кислорода (АФК) в эукариотических клетках. Поскольку молекулярный кислород последовательно восстанавливается до воды комплексами цепей переноса электронов, небольшой процент супероксида (O2–) производится комплексами I и III. После образования внутри МХ супероксид может быть преобразован в перекись водорода ферментом марганцевой супероксиддисмутазой. Однако в определённых ситуациях продукция АФК может превосходить антиоксидантную способность клетки. Это состояние, называемое окислительным стрессом, вызывает необратимое повреждение клеточных макромолекул и может привести к гибели клетки. Маркеры окислительного стресса, такие как окислительно-модифицированные липиды, белки и ДНК, в большом количестве обнаружены у пациентов с БП [6]. Кроме того, высокие показатели оксидативного стресса регистрируются в группе риска по БП, в которую входят люди с частыми запорами, нарушением обоняния, тревожно-депрессивными мыслями и нарушениями поведения во сне, по сравнению с лицами, не входившими в группу риска. Эффект дефицита комплекса I, наблюдаемый при спорадической БП, может заключаться в усилении окислительного стресса. Эти данные подтверждаются результатами A.R. Esteves и соавт., которые установили усиление окислительного стресса и сниженную активность комплекса I в нейрональных клетках у пациентов с БП по сравнению с таковой у здоровых лиц [7].
Серьёзный прорыв в понимании патогенеза БП произошёл после рассмотрения конкретных случаев индуцированного паркинсонизма в Калифорнии в 1980-х гг. Так, J.W. Langston и соавт. (1983) выявили, что несколько лиц с наркотической зависимостью случайно произвели внутривенное введение синтетического аналога героина 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридина (MPTP) [6]. В течение нескольких дней у них развился паркинсонизм, а посмертный анализ выявил значительные поражения дофаминергических нейронов в чёрной субстанции с характерными включениями α-синуклеина. MPTP легко пересекает гематоэнцефалический барьер и поглощается астроцитами, там он метаболизируется в 1-метил-4-фенилпиридин (MPP+) и высвобождается во внеклеточное пространство. MPP+ является субстратом для транспортёра дофамина и селективно поглощается дофаминергическими нейронами, в которых он ингибирует комплекс I дыхательной цепи МХ. После ингибирования комплекс I производит избыточное количество супероксида, который подавляет антиоксидантную способность дофаминергических нейронов и приводит к их гибели [6]. Важно отметить, что MPP+ токсичен для дофаминергических нейронов не только человека, но и приматов, а также грызунов. Именно поэтому МРТР рекомендован для моделирования синдрома паркинсонизма у животных Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств, изданным Научным центром экспертизы средств медицинского применения1. Однако, как показывает опыт использования МРТР для моделирования БП, МРТР имеет некоторые недостатки: экспериментальные модели с использованием МРТР редко приводят к образованию телец Леви; MPTP индуцирует острую или подострую нейродегенерацию, отличающуюся от хронического нейродегенеративного процесса при БП; на моделях MPTP-индуцированного паркинсонизма трудно продемонстрировать двигательные расстройства, характерные для БП [8–10]. Другие ингибиторы МХ-комплекса I, такие как ротенон и аннонацин, и другие пестициды, действующие на МХ (паракват, манеб, дильдрин, гептахлор и атразин), в эксперименте вызывают патологические, биохимические и поведенческие изменения, характерные для БП [11, 12].
Одна из молекулярных теорий, которая может лежать в основе дефектов МХ, наблюдаемых при БП, — это накопление точечных мутаций в митохондриальной ДНК (мтДНК). В эукариотических клетках мтДНК организована в структуры белково-нуклеиновых кислот, известные как нуклеоиды. Каждый нуклеоид содержит в среднем 1,4 млн копий мтДНК, тогда как клетки могут содержать всего до 2000 нуклеоидов [6]. МтДНК имеет кольцевую конфигурацию и кодирует 13 белков вместе с МХ-транспортной РНК и рибосомальной РНК [6]. Белки, кодируемые мтДНК, включают субъединицы всех частей цепи переноса электронов, при этом 6 генов кодируют субъединицы комплекса I [6]. Следовательно, точечные мутации в любом из этих 6 генов могут изменить активность комплекса I. Это указывает на то, что МХ участвуют в патогенезе паркинсоноподобных синдромов. Дисфункция МХ была зарегистрирована не только в нейронах чёрной субстанции, но и в миоцитах, тромбоцитах, лимфоцитах и фибробластах пациентов с БП, что подтверждает идею о том, что дисфункция МХ не затрагивает исключительно нейроны и представляет собой важную особенность мультисистемности БП.
α-Синуклеин, характерный для БП, связывается с потенциал-зависимым анион-селективным каналом 1, транслоказой наружной мембраны (translocase of the outer membrane, TOM) 40 и TOM 20 и тем самым опосредует дисфункцию МХ [13, 14]. У пациентов со спорадической формой БП в нейронах чёрной субстанции снижен уровень потенциал-зависимого анион-селективного канала 1 ввиду агрегации α-синуклеина, вовлечённого в дисфункцию МХ [15]. Кроме того, α-синуклеин индуцирует активацию канала, который деполяризует мембрану МХ, что приводит к фрагментации и деградации МХ. Агрегированный α-синуклеин влияет на протеостаз, нарушая функцию и транспорт между эндоплазматической сетью, аппаратом Гольджи и аутофаго-лизосомальной системой, что приводит к дестабилизации связи между органеллами и, как следствие, к дисфункции МХ. Окислительный стресс тесно связан с дисфункцией МХ, при этом МХ продуцируют до 90% клеточных АФК [16]. По-видимому, синуклеинопатия, окислительный стресс и дисфункция МХ формируют порочный круг в патогенезе спорадической БП [17]. Повышенную выработку АФК и усиленную агрегацию α-синуклеина может вызывать также накопление железа в чёрной субстанции мозга у пациентов со спорадической БП [15, 18]. МХ активно обмениваются с цитоплазмой железом, необходимым для синтеза различных ферментных систем, которые являются неотъемлемыми компонентами МХ-комплексов I и III [18]. Выключение комплекса I ротеноном, MPTP и паракватом приводит к накоплению железа и индуцирует развитие БП [19]. Ингибирование системы убиквитин-протеасом вызывает также дисбаланс железа в клетках, что дополнительно усиливает генерацию АФК и агрегацию α-синуклеина [20].
Митохондриальная дисфункция в патогенезе аутосомно-доминантных форм болезни Паркинсона
Изначально α-синуклеин был связан с БП как основной компонент телец Леви, а ген SNCA, кодирующий α-синуклеин, впоследствии был идентифицирован как первый ген, отвечающий за развитие аутосомно-доминантной формы БП [21]. α-Синуклеин — небольшой полипептид, включающий 140 аминокислот, опосредует высвобождение нейротрансмиттера в пресинаптических окончаниях и взаимодействует с мембранами различных органелл, включая МХ. По данным S. Mullin и соавт., α-синуклеин обнаружен в мембранах МХ и непосредственно влияет на их структуру и функцию [22]. На моделях in vitro и in vivo показано, что мутации A53T, E46K и H50Q гена SNCA, приводящие к появлению дефектного белка, вызывают фрагментацию МХ и избыточную продукцию АФК [23]. В норме α-синуклеин находится в специализированной структуре (mitochondria-associated endoplasmic reticulum membrane — МАМ), образующей границу между эндоплазматическим ретикулумом и МХ, что крайне важно для регуляции кальциевого сигналинга и апоптоза. Негативные мутации в гене SNCA снижают связывание α-синуклеина с MAM и увеличивают фрагментацию МХ, что предполагает его роль в регуляции морфологии МХ [14, 24]. Мутантный α-синуклеин при избыточной экспрессии вызывает диссоциацию МХ в MAM, тем самым нарушая обмен кальция и снижая выработку энергии МХ [25]. Наряду с прямым действием на морфологию МХ, S.D. Ryan и соавт. выявили влияние α-синуклеина на биогенез МХ посредством регуляции рецептора PGC1α [26].
Мутации в гене лейцин-богатой повторной киназы (leucine-rich repeat kinase, LRRK) 2, кодирующей белок дардарин, вызывают аутосомно-доминантную форму БП и являются частой причиной семейных форм БП [27]. LRRK2 — многофункциональная протеинкиназа, мутации в гене которой приводят к повышению его экспрессии и высокой киназной активности. В эксперименте у животных с мутантным LRRK2, сопряжённым с БП, продемонстрирована повышенная чувствительность МХ к токсинам, наряду с дефектом гомеостаза МХ и повышенной продукцией ими АФК [23]. Доказано, что мутация G2019S в гене LRRK2 ассоциирована с аномалиями МХ в дофаминергических нейронах чёрной субстанции у пациентов с БП [26], а также у мышей с БП в эксперименте [27].
Известны несколько белков, которые взаимодействуют с LRRK2 и опосредуют патологические эффекты в МХ. Например, белок деления МХ — дардарин-связанный белок (dynamin-related protein — DRP) 1 — действует как эффектор фрагментации МХ через фосфорилирование, опосредованное LRRK2 [28]. Более того, LRRK2, по-видимому, взаимодействует с другими белками деления МХ, такими как митофузин и динаминоподобным белком [29]. Повышенная утечка протонов и потеря мембранного потенциала МХ, опосредованная LRRK2, вероятно, вызвана избыточной активностью разобщающего белка МХ 2-го и 4-го типов [30]. Показано также, что мутация G2019S в гене LRRK2 нарушает протеасомную деградацию белка внешней МХ-мембраны, который связывает МХ с моторными белками микротрубочек, что в свою очередь способствует дефектной митофагии [31].
Наряду с вышеизложенным, в европейских когортах пациентов с семейным анамнезом БП, предполагающим аутосомно-доминантное наследование, впервые продемонстрирована связь между заболеванием и геном VPS (vacuolar protein sorting) 35, ассоциированным с сортировкой вакуолярных белков [27, 32]. VPS35 является основным компонентом комплекса, который опосредует ретроградную доставку веществ из эндосомы в аппарат Гольджи, а также рециркуляцию веществ из эндосомы на поверхность клетки [33]. Ранние исследования показали, что мутации в VPS35, ассоциированные с БП, обусловливают уязвимость к МХ-токсину MPP+ in vitro [34]. Основная функция VPS35 в МХ, по-видимому, заключается в регуляции динамики МХ посредством взаимодействия с белками деления и слияния МХ. Недавние исследования показали, что мутантный VPS35 может вызывать фрагментацию МХ, что приводит к нейродегенерации [14]. Это происходит либо за счёт снижения деградации E3 убиквитинлигазы-1 МХ, увеличивающей деградацию митофузина [35], либо путём усиления оборота комплексов DRP1 через везикулозависимый транспорт в лизосомы из МХ [36]. Кроме этого, показано, что повышенная фрагментация МХ, вызванная мутацией D620N в гене VPS35, нарушает сборку и активность комплекса МХ I [37].
Ещё одним геном, мутации в котором были идентифицированы в 3 японских семьях как причина аутосомно-доминантной БП с поздним началом, явился CHCHD (coiled-coil-helix domain containing) 2 [38]. Продукт данного гена — белок межмембранного пространства МХ и клеточного ядра. В норме CHCHD2 в основном находится в МХ и связан с комплексом МХ IV. Гипоэкспрессия CHCHD2 угнетает активность комплекса МХ IV, что приводит к увеличению продукции АФК и фрагментации МХ [39]. Интересно, что CHCHD2 транслоцируется в ядро и функционирует как фактор транскрипции в условиях стресса, регулируя экспрессию изоформы субъединицы 4 комплекса МХ IV [40]. У дрозофил с низкой экспрессией CHCHD2 [41] или наличием мутаций в гене CHCHD, связанных с БП [42], также наблюдались структурные и биохимические аномалии МХ, приводящие к дофаминергической нейродегенерации в чёрной субстанции и двигательной дисфункции. Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что мутации гена CHCHD2 приводят к нигростриарной нейродегенерации и развитию БП именно за счёт дисфункции МХ.
Митохондриальная дисфункция в патогенезе аутосомно-рецессивных форм болезни Паркинсона
Наиболее частой причиной аутосомно-рецессивной формы БП являются мутации (более 120) в гене Parkin, кодирующем одноименный белок — цитозольную убиквитинлигазу E3, которая присоединяет убиквитин к целевым белкам для сигналинга или протеасомной деградации. Parkin в первую очередь функционирует в ассоциации с МХ; модели с дефицитом Parkin демонстрируют глубокие дефекты морфологии и функции МХ [43]. Убиквитинлигаза E3 выполняет разнообразные функции по поддержанию гомеостаза МХ, регулируя их биогенез и деградацию посредством митофагии, то есть удаляет дисфункциональные МХ из здорового пула МХ и облегчает их деградацию через аутофагoлизосомальный путь [44]. На ранних стадиях деградации МХ Parkin привлекается к повреждённым или дисфункциональным митохондриям и активируется киназой 1, что приводит к убиквитинированию белков и последующей протеасомной деградации [14]. A.M. Pickrell и соавт. на модели возрастной дофаминергической нейродегенерации у грызунов, сопровождающейся симптомами БП, продемонстрировали дефект Parkin-опосредованной митофагии в дистальных аксонах нейронов [45]. Эти результаты дополнительно подчёркивают патофизиологическое значение Parkin-опосредованной митофагии при БП по сравнению с данными, полученными в исследованиях in vitro. Помимо участия в митофагии, Parkin поддерживает функциональный пул МХ, регулируя их биогенез [43]. В норме Parkin опосредует деградацию PGC (peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator) 1α, что приводит к его транслокации в ядро и транскрипционной активации генов, связанных с МХ [46]. Следовательно, дисфункция Parkin подавляет биогенез МХ, что способствует снижению количества и функций данных органелл [47]. Эти результаты также подчёркивают ключевую роль Parkin в регуляции баланса биосинтеза и биодеградации МХ.
Второй наиболее распространённой причиной аутосомно-рецессивной БП с ранним началом являются мутации гена PINK1 [48]. PINK (PTEN-induced putative kinase) 1 — это митохондриальная серин-треониновая киназа, которая играет решающую роль в поддержании гомеостаза МХ. Так, PINK1 усиливает деление МХ за счёт увеличения активации протеинкиназы A [49] и модулирует биогенез МХ посредством регуляции Parkin-зависимой деградации [50]. Дефектный ген PINK1 нарушает функционирование МХ, что приводит к их разрушению. Наиболее широко изучена функция PINK1 в митофагии [45, 51]. PINK1 активирует Parkin посредством двойного механизма: прямого фосфорилирования [52] и трансактивации путём фосфорилирования убиквитина с последующим связыванием Parkin [51, 53, 54]. Кроме этого, PINK1 может опосредовать митофагию Parkin-независимым способом, привлекая ядерный точечный белок и оптиневрин [55]. PINK1, подобно LRRK2, способствует митофагии, останавливая транспорт МХ посредством фосфорилирования и протеасомной деградации [56]. В эксперименте на плодовых мушках и мышах показано, что неполное ингибирование PINK1 вызывает широкий спектр дисфункций МХ. Это в значительной степени является результатом потери митофагии, опосредованной PINK1/Parkin. Вместе с тем PINK1 регулирует гомеостаз МХ другим способом [43], а именно дефицит PINK1 приводит к перегрузке МХ кальцием [57] и специфическому снижению комплексов МХ I и III [58].
Редкую форму аутосомно-рецессивной ювенильной формы БП (синдром Куфора–Ракеба) вызывают мутации гена ATP13A2 [59]. Последний кодирует АТФазу типа P5B, которая в основном локализуется в эндолизосомальном компартменте. Хотя считается, что ATP (lysosomal ATPase) 13A2 транспортирует катионы через мембраны органелл [59], его транспортная активность определена не полностью. Тем не менее потеря ATP13A2 в клетках у пациентов с БП демонстрирует их повышенную восприимчивость к Zn2+ и Mn2+, что указывает на значимую роль ATP13A2 в регуляции баланса этих микроэлементов [14, 59]. Связь ATP13A2 с дисфункцией МХ была впервые выявлена в фибробластах кожи, полученных от пациентов с мутацией гена ATP13A2 [14, 60]. В исследованиях A. Grünewald и соавт. [60] и D. Ramonet и соавт. [61] на модели клеток с дефицитом ATP13A2 продемонстрирована дисфункция МХ, выражающаяся в снижении продукции АТФ, увеличении фрагментации МХ и повышении продукции АФК [60, 61]. J.S. Раrk и соавт. предположили более широкое влияние ATP13A2 на биоэнергетику клетки, обнаружив ухудшение гликолиза и более глубокую дисфункцию МХ на фоне потери ATP13A2 [62]. Вместе с тем в литературе описаны мутации ATP13A2, которые вызывают нарушение гомеостаза Zn2+ за счёт дисбаланса везикулярной секвестрации и, как следствие, дисфункции МХ [61]. Нарушение метаболизма Zn2+ вызывает также дисфункцию лизосом [63] и может способствовать дефектной митофагии, что подчёркивает сложное взаимодействие между тесно связанными внутриклеточными процессами в патогенезе БП.
Потенциальные терапевтические стратегии
Значимая роль дисфункции МХ в механизмах развития БП обусловливает необходимость создания новых патогенетически обоснованных подходов к лечению данного заболевания. Разрабатываются различные стратегии для улучшения функций МХ как при семейной, так и при спорадической формах БП. Эффективным подходом к лечению БП представляется влияние на процесс митофагии дефектных МХ. Показано, что увеличение активности цитозольной убиквитинлигазы E3 (Parkin) при введении нилотиниба, который ингибирует фосфорилирование, оказывает нейропротекторный эффект [64]. Угнетение активности деубиквитинирующих ферментов также увеличивает Parkin-опосредованную митофагию, поскольку убиквитинспецифическая пептидаза противодействует влиянию Parkin, тогда как ингибирование этого фермента увеличивает деградацию МХ [14, 65]. Кроме того, активация митофагии при БП может создавать альтернативные условия для восстановления функции МХ. По сведениям A. Hamacher-Brady и соавт., белки FUNDC (FUN14 Domain Containing) 1 и Ambra (Autophagy And Beclin 1 Regulator) 1 продемонстрировали способность модулировать митофагию независимо от активности ферментов PINK1 или Parkin [66]. Вместе с тем обнаружено, что митофагия, опосредованная Nip3-подобным белком [14, 67], восстанавливает функцию МХ и предотвращает нейродегенерацию в условиях дефицита белков Parkin или PINK1, что обосновывает данный механизм как новую потенциальную мишень при лечении БП [14].
Ещё одной стратегией нейропротекции является увеличение биосинтеза МХ. Так G. Hayashi и соавт. показали, что диметилфумарат (dimethyl fumarate, BG-12) увеличивает биогенез МХ через фактор транскрипции NRF2 в эксперименте на лабораторных животных и при введении в организм человека [68]. BG-12 показал свой эффект в III фазе клинических исследований рецидивирующего рассеянного склероза [69] и был одобрен для лечения пациентов, что подчёркивает потенциал применения данного препарата при БП. Другими активаторами NRF2-опосредованного пути являются синтетические тритерпеноиды, которые продемонстрировали своё защитное влияние на дофаминергические нейроны при действии MPTP [70]. По сведениям A. Johri и соавт., на роль мишени при лечении БП может претендовать белок PGC-1α — мощный индуктор биосинтеза МХ [71]. В других исследованиях на модели нейродегенерации у лабораторных животных продемонстрировано действие безафибрата [71] и кверцетина [72] в отношении увеличения количества МХ, что также открывает возможности для разработки новых стратегий терапии БП.
Выводы
Анализ современной литературы показал значимую роль дисфункции МХ в патогенезе БП. К дисфункции МХ могут приводить как экзогенные средовые факторы, так и эндогенные, а именно генные аберрации, которые характерны для семейных форм заболевания. Данные этиологические факторы оказывают на МХ не только прямое, но и опосредованное действие через активацию или угнетение системы вторичных мессенджеров. Патогенетически дисфункция МХ формируется вследствие дефекта митофагии или нарушения биосинтеза МХ. Следовательно, новые стратегии лечения БП должны быть ориентированы на усиление митофагии дефектных МХ либо на повышение биосинтеза новых МХ.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешних источников финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов: Жукова Н.Г. — редактирование рукописи; Колобовникова Ю.В. — концепция, утверждение окончательного варианта статьи для публикации; Сайфитдинхужаев З.Ф. — концепция, написание текста, редактирование рукописи.
Source of funding. The study was not supported by any external sources of funding.
Conflict of interest. The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
Authors’ contributions: Zhukova N.G. — manuscript editing; Kolobovnikova Yu.V. — concept, approval of the final version of the article for publication; Sayfitdinkhuzhaev Z.F. — concept, writing the text, editing the manuscript.
1 Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. М.; 2012. 944 с. URL: https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Zakon_RF/Mironov_Rukovodstvo_po_provedeniju_doklinicheskikh_issledovanii_lekarstvennykh_sredstv.pdf
Об авторах
Наталья Григорьевна Жукова
Сибирский государственный медицинский университет
Email: sayfutdinxodjaev2002@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6547-6622
доктор медицинских наук, профессор, профессор каф. неврологии и нейрохирургии
Россия, 634050, Томск, Московский тракт, д. 2Юлия Владимировна Колобовникова
Сибирский государственный медицинский университет
Email: sayfutdinxodjaev2002@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7156-2471
доктор медицинских наук, доцент, декан медико-биологического факультета, зав. каф. нормальной физиологии, профессор каф. Патофизиологии
Россия, 634050, Томск, Московский тракт, д. 2Зайнутдинхужа Фазлиддинхужа угли Сайфитдинхужаев
Сибирский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: sayfutdinxodjaev2002@gmail.com
ORCID iD: 0009-0007-2184-2708
SPIN-код: 9065-3080
лаборант-исследователь кафедральной научно-образовательной лаборатории когнитивной нейрофизиологии психосоматических отношений
Россия, 634050, Томск, Московский тракт, д. 2Список литературы
- Зарипов Н.А., Додхоев Д.С., Абдуллозода С.М., Джамолова Р.Д. Немоторные симптомы болезни Паркинсона. Вестник Авиценны. 2021;23(3):342–351. Zaripov NA, Dodxoev DS, Abdullzoda SM, Zhamalova RD. Nonmotor clinic Parkinson’s disease. Avicenna’s Bulletin. 2021;23(3):342–351. doi: 10.25005/2074-0581-2021-23-3-342-351
- Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030. Neurology. 2007;68(5):384–386. doi: 10.1212/01.wnl.0000247740.47667.03
- Катунина Е.А., Бездольный Ю.Н. Эпидемиология болезни Паркинсона. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013;113(12):81–88. Katunina EA, Bezdolniy YuN. Epidemiology of Parkinson’s disease. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2013;113(12):81–88.
- Polito L, Greco A, Seripa D. Genetic profile, environmental exposure, and their interaction in Parkinson’s disease. Parkinsons Dis. 2016;2016:6465793. doi: 10.1155/2016/6465793
- Zaltieri M, Longhena F, Pizzi M, et al. Mitochondrial dysfunction and α-synuclein synaptic pathology in Parkinson’s disease: who’s on first? Parkinsons Dis. 2015;2015:108029. doi: 10.1155/2015/108029
- Hauser DN, Hastings TG. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in Parkinson’s disease and monogenic parkinsonism. Neurobiol Dis. 2013;51:35–42. doi: 10.1016/j.nbd.2012.10.011
- Esteves AR, Arduíno DM, Swerdlow RH, et al. Oxidative stress involvement in alpha-synuclein oligomerization in Parkinson’s disease cybrids. Antioxid Redox Signal. 2009;11(3):439–448. doi: 10.1089/ars.2008.2247
- Blesa J, Przedborski S. Parkinson’s disease: animal models and dopaminergic cell vulnerability. Front Neuroanat. 2014;8:155. doi: 10.3389/fnana.2014.00155
- Lindholm D, Mäkelä J, Di Liberto V, et al. Current disease modifying approaches to treat Parkinson’s disease. Cell Mol Life Sci. 2016;73(7):1365–1379. doi: 10.1007/s00018-015-2101-1
- Mustapha M, Mat Taib CN. MPTP-induced mouse model of Parkinson’s disease: a promising direction of therapeutic strategies. Bosn J Basic Med Sci. 2021;21(4):422–433. doi: 10.17305/bjbms.2020.5181
- Freire C, Koifman S. Pesticide exposure and Parkinson’s disease: epidemiological evidence of association. Neurotoxicology. 2012;33(5):947–971. doi: 10.1016/j.neuro.2012.05.011
- Inden M, Kitamura Y, Abe M, et al. Parkinsonian rotenone mouse model: reevaluation of long-term administration of rotenone in C57BL/6 mice. Biol Pharm Bull. 2011;34(1):92+96. doi: 10.1248/bpb.34.92
- Pozo Devoto VM, Falzone TL. Mitochondrial dynamics in Parkinson’s disease: a role for α-synuclein? Dis Model Mech. 2017;10(9):1075–1087. doi: 10.1242/dmm.026294
- Park JS, Davis RL, Sue CM. Mitochondrial dysfunction in Рarkinson’s disease: new mechanistic insights and therapeutic perspectives. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018;18(5):21. doi: 10.1007/s11910-018-0829-3
- Chu Y, Goldman JG, Kelly L., et al. Abnormal alpha-synuclein reduces nigral voltage-dependent anion channel 1 in sporadic and experimental Parkinson’s disease. Neurobiol Dis. 2014;69:1–14. doi: 10.1016/j.nbd.2014.05.003
- Perfeito R, Cunha-Oliveira T, Rego AC. Revisiting oxidative stress and mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of Parkinson disease-resemblance to the effect of amphetamine drugs of abuse. Free Radic Biol Med. 2012;53(9):1791–1806. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2012.08.569
- Ganguly G, Chakrabarti S, Chatterjee U, Saso L. Proteinopathy, oxidative stress and mitochondrial dysfunction: cross talk in Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Drug Des Devel Ther. 2017;11:797–810. doi: 10.2147/DDDT.S130514
- Carboni E., Lingor P. Insights on the interaction of alpha-synuclein and metals in the pathophysiology of Parkinson’s disease. Metallomics. 2015;7(3):395–404. doi: 10.1039/c4mt00339j
- Carboni E, Lingor P. Insights on the interaction of alpha-synuclein and metals in the pathophysiology of Parkinson’s disease. Metallomics. 2015;7(3):395–404. doi: 10.1039/c4mt00339j
- Muñoz Y, Carrasco CM, Campos JD, et al. Parkinson’s disease: the mitochondria-iron link. Parkinsons Dis. 2016;2016:7049108. doi: 10.1155/2016/7049108
- Polymeropoulos MH, Lavedan C, Leroy E, et al. Mutation in the alpha-synuclein gene identified in families with Parkinson’s disease. Science. 1997;276(5321):2045–2047. doi: 10.1126/science.276.5321.2045
- Mullin S, Schapira A. α-Synuclein and mitochondrial dysfunction in Parkinson’s disease. Mol Neurobiol. 2013;47(2):587–597. doi: 10.1007/s12035-013-8394-x
- Ryan BJ, Hoek S, Fon EA, Wade-Martins R. Mitochondrial dysfunction and mitophagy in Parkinson’s: from familial to sporadic disease. Trends Biochem Sci. 2015;40(4):200–210. doi: 10.1016/j.tibs.2015.02.003
- Guardia-Laguarta C, Area-Gomez E, Rüb C, et al. α-Synuclein is localized to mitochondria-associated ER membranes. J Neurosci. 2014;34(1):249–259. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2507-13.2014
- Paillusson S, Gomez-Suaga P, Stoica R, et al. α-Synuclein binds to the ER-mitochondria tethering protein VAPB to disrupt Ca2+ homeostasis and mitochondrial ATP production. Acta Neuropathol. 2017;134(1):129–149. doi: 10.1007/s00401-017-1704-z
- Ryan SD, Dolatabadi N, Chan SF, et al. Isogenic human iPSC Parkinson’s model shows nitrosative stress-induced dysfunction in MEF2-PGC1α transcription. Cell. 2013;155(6):1351–1364. doi: 10.1016/j.cell.2013.11.009
- Yue M, Hinkle KM, Davies P, et al. Progressive dopaminergic alterations and mitochondrial abnormalities in LRRK2 G2019S knock-in mice. Neurobiol Dis. 2015;78:172–195. doi: 10.1016/j.nbd.2015.02.031
- Reinhardt P, Schmid B, Burbulla LF, et al. Genetic correction of a LRRK2 mutation in human iPSCs links parkinsonian neurodegeneration to ERK-dependent changes in gene expression. Cell Stem Cell. 2013;12(3):354–367. doi: 10.1016/j.stem.2013.01.008
- Santos D, Esteves AR, Silva DF, et al. The Impact of mitochondrial fusion and fission modulation in sporadic Parkinson’s disease. Mol Neurobiol. 2015;52(1):573–586. doi: 10.1007/s12035-014-8893-4
- Papkovskaia TD, Chau KY, Inesta-Vaquera F, et al. G2019S leucine-rich repeat kinase 2 causes uncoupling protein-mediated mitochondrial depolarization. Hum Mol Genet. 2012;21(19):4201–4213. doi: 10.1093/hmg/dds244
- Hsieh CH, Shaltouki A, Gonzalez AE, et al. functional impairment in Miro degradation and mitophagy is a shared feature in familial and sporadic Parkinson’s disease. Cell Stem Cell. 2016;19(6):709–724. doi: 10.1016/j.stem.2016.08.002
- Vilariño-Güell C, Wider C, Ross OA, et al. VPS35 mutations in Parkinson disease. Am J Hum Genet. 2011;89(1):162–167. doi: 10.1016/j.ajhg.2011.06.001
- Zimprich A, Benet-Pagès A, Struhal W, et al. A mutation in VPS35, encoding a subunit of the retromer complex, causes late-onset Parkinson disease. Am J Hum Genet. 2011;89(1):168–175. doi: 10.1016/j.ajhg.2011.06.008
- Small SA, Petsko GA. Retromer in Alzheimer disease, Parkinson disease and other neurological disorders. Nat Rev Neurosci. 2015;16(3):126–132. doi: 10.1038/nrn3896
- Bi F, Li F, Huang C, Zhou H. Pathogenic mutation in VPS35 impairs its protection against MPP(+) cytotoxicity. Int J Biol Sci. 2013;9(2):149–155. doi: 10.7150/ijbs.5617
- Tang FL, Liu W, Hu JX, et al. VPS35 deficiency or mutation causes dopaminergic neuronal loss by impairing mitochondrial fusion and function. Cell Rep. 2015;12(10):1631–1643. doi: 10.1016/j.celrep.2015.08.001
- Wang W, Wang X, Fujioka H, et al. Parkinson’s disease-associated mutant VPS35 causes mitochondrial dysfunction by recycling DLP1 complexes. Nat Med. 2016;22(1):54–63. doi: 10.1038/nm.3983
- Chou L, Wang W, Hoppel C, et al. Parkinson’s disease-associated pathogenic VPS35 mutation causes complex I deficits. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2017;1863(11):2791–2795. doi: 10.1016/j.bbadis.2017.07.032
- Funayama M, Ohe K, Amo T, et al. CHCHD2 mutations in autosomal dominant late-onset Parkinson’s disease: a genome-wide linkage and sequencing study. Lancet Neurol. 2015;14(3):274–282. doi: 10.1016/S1474-4422(14)70266-2
- Aras S, Bai M, Lee I, et al. MNRR1 (formerly CHCHD2) is a bi-organellar regulator of mitochondrial metabolism. Mitochondrion. 2015;20:43–51. doi: 10.1016/j.mito.2014.10.003
- Meng H, Yamashita C, Shiba-Fukushima K, et al. Loss of Parkinson’s disease-associated protein CHCHD2 affects mitochondrial crista structure and destabilizes cytochrome c. Nat Commun. 2017;8:15500. doi: 10.1038/ncomms15500
- Tio M, Wen R, Lim YL, et al. Varied pathological and therapeutic response effects associated with CHCHD2 mutant and risk variants. Hum Mutat. 2017;38(8):978–987. doi: 10.1002/humu.23234
- Scarffe LA, Stevens DA, Dawson VL, Dawson TM. Parkin and PINK1: much more than mitophagy. Trends Neurosci. 2014;37(6):315–324. doi: 10.1016/j.tins.2014.03.004
- Pickrell AM, Youle RJ. The roles of PINK1, Parkin, and mitochondrial fidelity in Parkinson’s disease. Neuron. 2015;85(2):257–273. doi: 10.1016/j.neuron.2014.12.007
- Pickrell AM, Huang CH, Kennedy S, et al. Endogenous Parkin preserves dopaminergic substantia nigral neurons following mitochondrial DNA mutagenic stress. Neuron. 2015;87(2):371–381. doi: 10.1016/j.neuron.2015.06.034
- Shin JH, Ko HS, Kang H, et al. PARIS (ZNF746) repression of PGC-1α contributes to neurodegeneration in Parkinson’s disease. Cell. 2011;144(5):689–702. doi: 10.1016/j.cell.2011.02.010
- Stevens DA, Lee Y, Kang HC, et al. Parkin loss leads to PARIS-dependent declines in mitochondrial mass and respiration. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112(37):11696–11701. doi: 10.1073/pnas.1500624112
- Lill CM. Genetics of Parkinson’s disease. Mol Cell Probes. 2016;30(6):386–396. doi: 10.1016/j.mcp.2016.11.001
- Pryde KR, Smith HL, Chau KY, Schapira AH. PINK1 disables the anti-fission machinery to segregate damaged mitochondria for mitophagy. J Cell Biol. 2016;213(2):163–171. doi: 10.1083/jcb.201509003
- Lee Y, Stevens DA, Kang SU, et al. PINK1 Primes Parkin-mediated ubiquitination of PARIS in dopaminergic neuronal survival. Cell Rep. 2017;18(4):918–932. doi: 10.1016/j.celrep.2016.12.090
- Geisler S, Holmström KM, Skujat D, et al PINK1/Parkin-mediated mitophagy is dependent on VDAC1 and p62/SQSTM1. Nat Cell Biol. 2010;12(2):119–131. doi: 10.1038/ncb2012
- Kondapalli C, Kazlauskaite A, Zhang N, et al. PINK1 is activated by mitochondrial membrane potential depolarization and stimulates Parkin E3 ligase activity by phosphorylating Serine 65. Open Biol. 2012;2(5):120080. doi: 10.1098/rsob.120080
- Kazlauskaite A, Kondapalli C, Gourlay R, et al. Parkin is activated by PINK1-dependent phosphorylation of ubiquitin at Ser65. Biochem J. 2014;460(1):127–139. doi: 10.1042/BJ20140334
- Kane LA, Lazarou M, Fogel AI, et al. PINK1 phosphorylates ubiquitin to activate Parkin E3 ubiquitin ligase activity. J Cell Biol. 2014;205(2):143–153. doi: 10.1083/jcb.201402104
- Lazarou M, Sliter DA, Kane LA, et al. The ubiquitin kinase PINK1 recruits autophagy receptors to induce mitophagy. Nature. 2015;524(7565):309–314. doi: 10.1038/nature14893
- Wang X, Winter D, Ashrafi G, et al. PINK1 and Parkin target Miro for phosphorylation and degradation to arrest mitochondrial motility. Cell. 2011;147(4):893–906. doi: 10.1016/j.cell.2011.10.018
- Kostic M, Ludtmann MH, Bading H, et al. PKA phosphorylation of NCLX reverses mitochondrial calcium overload and depolarization, promoting survival of PINK1-deficient dopaminergic neurons. Cell Rep. 2015;13(2):376–386. doi: 10.1016/j.celrep.2015.08.079
- Amo T, Saiki S, Sawayama T, et al. Detailed analysis of mitochondrial respiratory chain defects caused by loss of PINK1. Neurosci Lett. 2014;580:37–40. doi: 10.1016/j.neulet.2014.07.045
- Park JS, Blair NF, Sue CM. The role of ATP13A2 in Parkinson’s disease: clinical phenotypes and molecular mechanisms. Mov Disord. 2015;30(6):770–779. doi: 10.1002/mds.26243
- Grünewald A, Arns B, Seibler P, et al. ATP13A2 mutations impair mitochondrial function in fibroblasts from patients with Kufor-Rakeb syndrome. Neurobiol Aging. 2012;33(8):1843.e1–7. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2011.12.035
- Ramonet D, Podhajska A, Stafa K, et al. PARK9-associated ATP13A2 localizes to intracellular acidic vesicles and regulates cation homeostasis and neuronal integrity. Hum Mol Genet. 2012;21(8):1725–1743. doi: 10.1093/hmg/ddr606
- Раrk JS, Koentjoro B, Veivers D, et al. Parkinson’s disease-associated human ATP13A2 (PARK9) deficiency causes zinc dyshomeostasis and mitochondrial dysfunction. Hum Mol Genet. 2014;23(11):2802–2815. doi: 10.1093/hmg/ddt623
- Tsunemi T, Krainc D. Zn²+ dyshomeostasis caused by loss of ATP13A2/PARK9 leads to lysosomal dysfunction and alpha-synuclein accumulation. Hum Mol Genet. 2014;23(11):2791–2801. doi: 10.1093/hmg/ddt572
- Karuppagounder SS, Brahmachari S, Lee Y, et al. The c-Abl inhibitor, nilotinib, protects dopaminergic neurons in a preclinical animal model of Parkinson’s disease. Sci Rep. 2014;4:4874. doi: 10.1038/srep04874
- Dikic I, Bremm A. DUBs counteract parkin for efficient mitophagy. EMBO J. 2014;33(21):2442–2443. doi: 10.15252/embj.201490101
- Hamacher-Brady A., Brady N.R. Mitophagy programs: mechanisms and physiological implications of mitochondrial targeting by autophagy. Cell Mol Life Sci. 2016;73(4):775–795. doi: 10.1007/s00018-015-2087-8
- Koentjoro B, Park JS, Sue CM. Nix restores mitophagy and mitochondrial function to protect against PINK1/Parkin-related Parkinson’s disease. Sci Rep. 2017;7:44373. doi: 10.1038/srep44373
- Hayashi G, Jasoliya M, Sahdeo S, et al. Dimethyl fumarate mediates Nrf2-dependent mitochondrial biogenesis in mice and humans. Hum Mol Genet. 2017;26(15):2864–2873. doi: 10.1093/hmg/ddx167
- Linker RA, Gold R. Dimethyl fumarate for treatment of multiple sclerosis: mechanism of action, effectiveness, and side effects. Curr Neurol Neurosci Rep. 2013;13(11):394. doi: 10.1007/s11910-013-0394-8
- Kaidery NA, Banerjee R, Yang L, et al. Targeting Nrf2-mediated gene transcription by extremely potent synthetic triterpenoids attenuate dopaminergic neurotoxicity in the MPTP mouse model of Parkinson’s disease. Antioxid Redox Signal. 2013;18(2):139–157. doi: 10.1089/ars.2011.4491
- Johri A, Calingasan NY, Hennessey TM, et al. Pharmacologic activation of mitochondrial biogenesis exerts widespread beneficial effects in a transgenic mouse model of Huntington’s disease. Hum Mol Genet. 2012;21(5):1124–1137. doi: 10.1093/hmg/ddr541
- Li X, Wang H, Gao Y, et al. Quercetin induces mitochondrial biogenesis in experimental traumatic brain injury via the PGC-1α signaling pathway. Am J Transl Res. 2016;8(8):3558–3566.