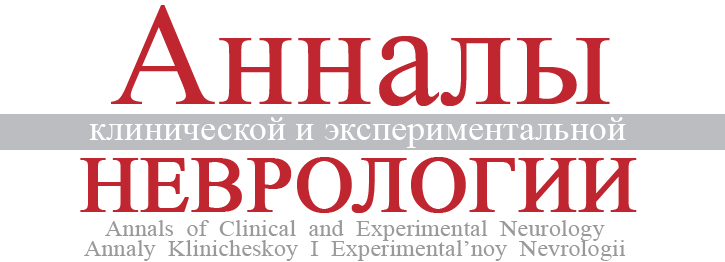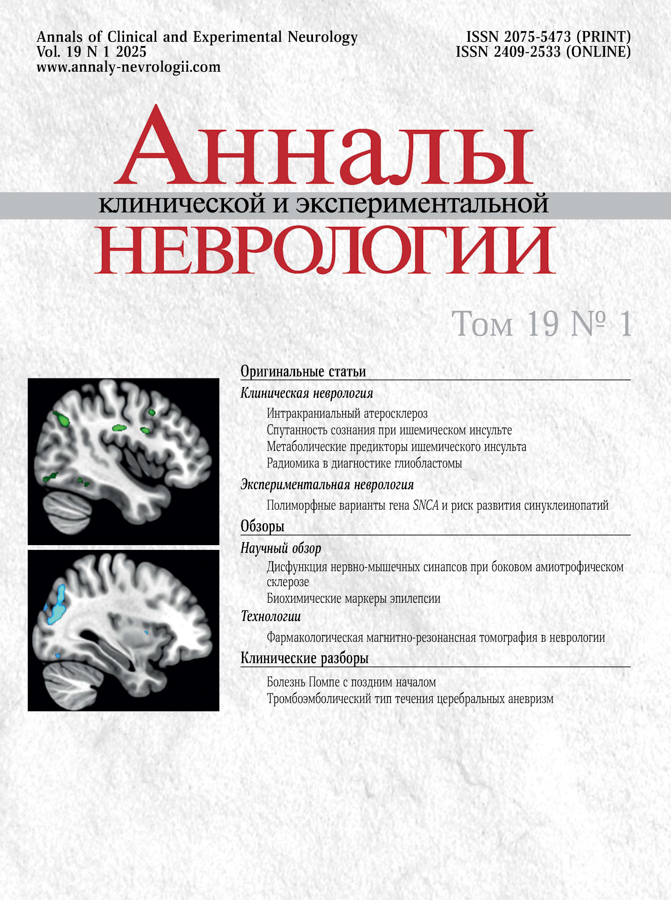Потенциальные биохимические маркеры эпилепсии
- Авторы: Максимова М.Ю.1, Аббасова Е.М.1, Шитова А.Д.1
-
Учреждения:
- Научный центр неврологии
- Выпуск: Том 19, № 1 (2025)
- Страницы: 62-67
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 17.01.2025
- Статья одобрена: 31.01.2025
- Статья опубликована: 03.04.2025
- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1265
- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1265
- ID: 1265
Цитировать
Аннотация
Диагностика эпилепсии, оценка частоты и тяжести эпилептических приступов являются неотъемлемыми условиями лечения больных. Мониторинг эпилептогенеза на разных стадиях обеспечивает контроль эффективности противоэпилептической терапии. Базовым понятием такого подхода является категория биомаркеров, некоторые из них могут иметь, помимо диагностического, и прогностическое значение, которое заключается в возможности предсказать характер течения эпилепсии и вероятность возникновения повторных эпилептических приступов.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Согласно механистическим представлениям, эпилептогенез — это процесс, посредством которого реорганизация нейронной сети мозга сопровождается повышенной восприимчивостью к эпилептическим приступам с увеличением вероятности возникновения спонтанных повторных приступов [1].
Ранее считалось, что эпилептогенез представлен латентным периодом, определяемым как интервал между первоначальным повреждением (процесс эпилептогенеза исследовался в основном на моделях посттравматической или постинсультной эпилепсии) и первым неспровоцированным приступом [2].
В последующем исследования показали, что эпилептогенез — это прогрессирующее состояние. Феномен «разжигания», характеризующийся увеличением активности нейронов вследствие повторяющихся электрических или химических стимулов, подчёркивает, что повторные приступы могут увеличивать возможность возникновения последующих приступов. Данное мнение согласуется с теорией «приступ порождает приступ» и дальнейшую гибель нейронов, предложенной W. Gower в 1885 г. [3]. Наряду с этим ряд авторов критически рассматривают существующие данные о последствиях повторяющихся эпилептических приступов для нейронных сетей мозга. С одной стороны, эпилептическая активность вызывает молекулярные, структурные и функциональные изменения, включая утрату нейронов, реорганизацию связей и метаболические изменения, которые могут способствовать прогрессированию заболевания. С другой стороны, наличие ремиссий в 2/3 случаев эпилепсии, а также различные модели хронической эпилепсии на животных противоречат этой теории. Экспериментальные исследования показали, что эпилептические приступы могут вызывать изменения нейронов, которые повышают порог приступа и снижают риск развития повторного приступа [2].
На клеточном уровне процесс эпилептогенеза включает:
- резкое уменьшение числа нейронов и синапсов;
- астроглиоз;
- активацию микроглии;
- ангиогенез [4].
Последние десятилетия принесли «драматические» изменения в понимании каскада молекулярных дисфункций при эпилепсии, в который вносят вклад различные динамические процессы: формирование «возбуждающих» синапсов; дисбаланс ионного гомеостаза; нарушение целостности гематоэнцефалического барьера (ГЭБ); дисфункция глимфатической системы; накопление провоспалительных цитокинов, амилоида и фосфорилированного тау-белка [4].
Полагают, что эпилептогенные факторы первоначально приводят к селективной ранимости нейронов. Однако эта теория может быть опровергнута исследованием, в котором эпилепсия, спровоцированная гипертермией, не ассоциируется с утратой нейронов [2]. Ключевым механизмом эпилептогенеза является потеря ингибиторных интернейронов [5].
Активированные астроциты, продуцируя провоспалительные цитокины, играют ключевую роль в дисфункции ГЭБ и глимфатической системы и опосредуют повышенную возбудимость нейронов. Астроциты характеризуются также высвобождением глиотрансмиттеров (например, глутамата), нарушая синаптическую активность и вызывая прогрессирующий дисбаланс между активирующими и ингибирующими компонентами эпилептических сетей [6].
Повреждение ГЭБ приводит к выходу и накоплению альбумина во внеклеточном пространстве. Альбумин посредством активации рецептора трансформирующего фактора роста-β (TGF-βR2) на астроцитах способствует запуску TGF-β-сигнального пути, образованию TGF-β и усилению активности астроцитов, что вызывает нарушение регуляции содержания калия и глутамата в клетках и дальнейшее усиление секреции провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1β и -6). Доказано, что в процессе эпилептогенеза в эпилептогенных областях снижается экспрессия астроцитарных калиевых каналов внутреннего выпрямления (в основном субъединицы Kir4.1, регулирующие проникновение ионов калия в клетку), что обусловливает гипервозбудимость нейронов [7]. Данное состояние усугубляется снижением уровня переносчиков аминокислот. Определённое место в разрушении ГЭБ также играют матриксные металлопротеиназы, разрушающие плотные межклеточные контакты ГЭБ (за счёт деструкции дистрогликана — белка, фиксирующего ножки астроцитов к базальной мембране сосудов, с развитием лейкоцитарной инфильтрации ткани мозга) и усиливающие высвобождение провоспалительных цитокинов [8, 9]. В процессе эпилептогенеза клиренс цитокинов, регулируемый глимфатической системой, нарушается вследствие дисфункции периваскулярных пространств [4].
В «порочный круг» эпилептогенеза входит астроглиоз, способствующий дисрегуляции аквапорина-4 (AQP4). Основной функцией AQP4 является регуляция водного гомеостаза и содержания калия в клетках мозга, т. е. предотвращение эксайтотоксичности. Дизрегуляция экспрессии AQP4 может приводить к ионному дисбалансу в экстрацеллюлярном матриксе, стимулируя гипервозбудимость нейронов и увеличивая риск развития повторных эпилептических приступов [10].
Сигнальный путь механистической цепи рапамицина (mTOR) считается одним из возможных метаболических путей эпилептогенеза. Исследования показали, что путь mTOR вовлекается в эпилептогенез при генетических формах эпилепсии и туберозном склерозе. Путь mTOR регулирует синаптическую пластичность, экспрессию ионных каналов и программированную клеточную смерть. Дисфункция mTOR (нарушение клеточной пролиферации, синаптической пластичности, экспрессии ионных каналов), возникающая при патологических процессах в ткани мозга, приводит к развитию эпилепсии. В моделях на животных с генетической предрасположенностью к эпилепсии выявлена гиперактивация сигнального пути mTOR [11].
Согласно классическому определению, биомаркер — это характеристика, которая может быть объективно измерена и оценена как индикатор нормальных биологических процессов, патологических процессов или фармакологических ответов на терапевтическое вмешательство [4].
Все биомаркеры эпилепсии имеют следующие назначения:
- биомаркеры, определяющие группу пациентов с высоким риском развития заболевания (высокой предрасположенностью к эпилепсии);
- биомаркеры диагностического процесса;
- мониторинговые биомаркеры, характеризующие степень тяжести течения и позволяющие предсказать вероятность прогрессирования заболевания и прогноз;
- биомаркеры, функцией которых является оценка эффективности и безопасности применения противоэпилептических препаратов и методов на животных экспериментальных моделях;
- биомаркеры, функцией которых является оптимизация отбора однородных групп пациентов для проведения клинических исследований.
Изучение биомаркеров при эпилепсии охватывает такие области, как стратификация риска, диагностический процесс, оценка тяжести течения и определение прогноза, клинические исследования новых лекарственных средств и медицинских технологий. К оценочным критериям диагностических тестов относятся быстрота выполнения, надёжность полученных результатов, возможность использовать диагностическую информацию для оптимизации программ лечения, простота определения, высокая чувствительность и специфичность. Маркер эпилепсии, отвечающий всем указанным критериям, пока не найден, поэтому наиболее распространённым подходом является изучение потенциальных кандидатов с использованием метода мультипараметрической детекции [4].
Биохимические маркеры эпилепсии
Амфотерин
Амфотерин (high mobility group box-1 — HMGB1) участвует в иммунном ответе, связываясь с Toll-подобным рецептором 4 (TL4), активирует макрофаги и эндотелиоциты, высвобождая фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкины (ИЛ)-1 и -6. Помимо того, HMGB1, стимулируя TL4 и нейтрофилы, является индуктором окислительного стресса. В ЦНС HMGB1 активирует микроглию. Уровень HMGB1 в крови повышается в течение 3–4 ч после эпилептического приступа [12]. Усиление экспрессии Р-гликопротеина под влиянием HMGB1 связывают с развитием фармакорезистентности [13].
МикроРНК
МикроРНК (miRNA) — группа одноцепочечных эндогенных некодирующих молекул. miRNA участвуют как в физиологических (клеточное деление, контроль клеточного цикла, дифференцировка клеток, апоптоз, ангиогенез), так и в патологических процессах посредством регуляции гомеостаза [14].
Получены данные, свидетельствующие, что miRNA являются регуляторами иммунного ответа [15], причастны к разрушению ГЭБ [16], активируют окислительный стресс посредством усиления экспрессии ферментов, индуцирующих образование активных форм кислорода [17].
При эпилепсии выявлены повышенные уровни miRNA-23a, -34a, -132, -146a [18]. miRNA-4521 и -301a-3p были отмечены как потенциальные маркеры фармакорезистентного течения эпилепсии [19].
Аквапорины
Аквапорины — группа мембранных белков, участвующих в транспорте воды и ионов через клеточную мембрану. Благодаря своей функции аквапорины играют роль в водном гомеостазе, клеточной миграции и воспалении.
М.М. Salman и соавт. в образцах ткани мозга, полученных при амигдалогиппокампэктомии, выявили высокий уровень AQP4 [20].
Повышенное содержание AQP4 обнаружили в образцах эпилептогенной коры височной доли при резекционных вмешательствах [21]. G.T. Manley и соавт. высказали гипотезу о взаимосвязи AQP4 с медикаментозно-резистентными формами эпилепсии. Нарушение водно-электролитного (в особенности ионов калия) баланса в астроцитах приводит к высвобождению ионов калия из нейропилей в межклеточное пространство, где они захватываются и депонируются астроцитами. Осмотический отёк астроцитов, ограничивающий объём экстрацеллюлярного пространства, повышает эпилептиформную активность.
Глиальный фибриллярный кислый белок
Глиальный фибриллярный кислый белок — белок промежуточных нитей III типа, который экспрессируется клетками ЦНС, включая астроциты. Он является маркером астроглиоза, развивающегося при склерозе гиппокампа [22–24].
Матриксная металлопротеиназа
Матриксная металлопротеиназа 9 (ММП9) — это цинк-зависимая эндопротеаза, которая оказывает существенное влияние на процессы деструкции внеклеточного матрикса, а также участвует в процессах нейровоспаления, функционирования ГЭБ и синаптической пластичности. Во время эпилептического приступа высокая экспрессия цитокинов стимулирует активацию ММП9, что сопровождается разрушением молекул внеклеточного матрикса и нарушением целостности ГЭБ [25–27].
Цитокины
Цитокины — это специфические белки, продуцируемые глиальными клетками и нейронами в процессе нейровоспаления. Провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, -2, -6) обнаружены в незначительных количествах в ЦНС. В клинических исследованиях показано, что уровень ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α значительно повышается при фебрильных судорогах [28]. Полагают, что высокая экспрессия ИЛ-1β в микроглии и астроцитах усиливает накопление глутамата и возбудимость нейронов.
Нейротрофический фактор мозгового происхождения
Нейротрофический фактор мозгового происхождения (brain-derived neurotrophic factor — BDNF) является наиболее чувствительным индикатором нейропластичности. Нарушения в синтезе, процессинге или транспорте BDNF могут приводить к различным неврологическим заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера, хорею Гентингтона и эпилепсию. BDNF циркулирует в крови, не проникает через ГЭБ и депонируется в тромбоцитах и лейкоцитах. Увеличение экспрессии BDNF и его рецептора TrkB отмечено при височной эпилепсии и склерозе гиппокампа [29].
Нейротрофический фактор глиального происхождения
Нейротрофический фактор глиального происхождения (glial cell-derived neurotrophic factor — GDNF) участвует в развитии и функционировании нейронов и глио_цитов. Экспрессируется в нейронах и связывается с GDNFα1-рецепторами. Комплекс GDNF–GDNFα1 проводит сигналы в дофаминергические нигростриарные нейроны, нейроны моторной и сенсорной коры, модулируя их выживание. Полагают, что при эпилепсии GDNF первоначально синтезируется в активированных астроцитах и микроглии, а затем обнаруживается в цереброспинальной жидкости [30].
Маркеры нейродегенерации
По причине частого вовлечения гиппокампа в патогенез эпилепсии большое количество исследований посвящены изучению связи между эпилепсией и деменцией [31, 32].
Получены данные, свидетельствующие о том, что тау-белок и бета-амилоид не только являются продуктами нейродегенерации, но и участвуют в процессе эпилептогенеза [33]. Возможно, что связь между этими заболеваниями объясняется нейротоксичностью глутамата. Бета-амилоид увеличивает секрецию и накопление глутамата в синаптической щели, что приводит к активации продукции внутриклеточного кальция и фосфорилированного тау-белка [34]. Нарушение регуляции кальций-опосредованных путей усиливает возбудимость нейронов и ускоряет процесс нейродегенерации.
S100β
S100β — белок нейроглии, который относится к семейству кальцийсвязывающих белков S100. В низких концентрациях S100β стимулирует пролиферацию астроцитов и модулирует функциональную перестройку синапсов, оказывая нейротрофическое влияние. В высоких концентрациях S100β оказывает токсическое влияние на астроциты, индуцирует нейровоспаление, поддерживает эпилептогенез [35]. Имеются убедительные данные о связи повышения уровня S100β с тяжестью течения и прогнозом эпилепсии [36, 37]. Высокая экспрессия S100β в острой стадии инсульта является маркером постинсультной эпилепсии [38].
Нейрон-специфическая энолаза
Нейронспецифическая энолаза (neuron-specific enolase — NSE) — димерный гликолитический фермент, состоящий из 3 субъединиц и 5 изоферментов (αα, ββ, γγ, αβ и αγ). Известно, что изофермент αα содержится в глиальных клетках, в то время как γγ-энолаза специфична для нейронов. NSE является маркером гибели нейронов при инсульте и гипоксии [39].
Повышение уровня NSE выявлено после эпилептических приступов и эпилептического статуса [40, 41]. Наряду с этим получены данные об отсутствии связи между височной эпилепсией и уровнем NSE [42, 43].
NSE также обнаружена в тромбоцитах и эритроцитах, в связи с чем исследование уровня NSE в крови может быть неточным при развитии гемолиза.
Убиквитин карбокси-концевая гидролаза L1
Убиквитин карбоксиконцевая гидролаза L1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 — UCH-L1) — фермент, в большом количестве содержащийся в нейронах. Уровень UCH-L1 связан с гибелью нейронов и повышением проницаемости ГЭБ. UCH-L1 попадает в кровоток в короткие сроки после повреждения мозга, в связи с чем может быть потенциальным биомаркером эпилепсии. Несмотря на малое количество исследований, были получены данные, подтверждающие повышение уровня этого фермента в крови у пациентов с повторными эпилептическими приступами в анамнезе [44], а также после эпилептического приступа [45, 46].
Визинин-подобный белок
Визинин-подобный белок (visinin-like protein 1, VILIP-1) — нейрон-специфичный кальцийсвязывающий белок. Ранее был изучен как биомаркер инсульта, болезни Альцгеймера и травматического повреждения головного мозга. В исследовании М. Tikhonova и соавт. связи между уровнями VILIP-1 в препарате гиппокампа и крови не выявлено, однако эта работа выполнена на малой выборке пациентов [47]. Напротив, Z. Tan и соавт. обнаружили повышенный уровень VILIP-1 в крови пациентов с эпилепсией [48].
Заключение
Обнаружение и валидизация потенциальных биохимических маркеров имеет ключевое значение для раскрытия патогенеза и создания лабораторных методов диагностики эпилепсии, а также может стать основой определения таргетных мишеней противоэпилептической терапии.
Об авторах
Марина Юрьевна Максимова
Научный центр неврологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: ncnmaximova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7682-6672
д-р мед. наук, профессор, руководитель 2-го неврологического отделения Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское ш., д. 80Екатерина Мурадовна Аббасова
Научный центр неврологии
Email: ncnmaximova@mail.ru
ORCID iD: 0009-0009-7105-3103
аспирант 2-го неврологического отделения Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское ш., д. 80Анна Денисовна Шитова
Научный центр неврологии
Email: ncnmaximova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0787-6251
аспирант 2-го неврологического отделения Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское ш., д. 80Список литературы
- Dudek FE, Staley KJ. The time course and circuit mechanisms of acquired epileptogenesis. In: Noebels JL, Avoli M, Rogawski MA, et al., eds. Jasper’s basic mechanisms of the epilepsies. ed. Bethesda; 2012.
- Pitkänen A, Lukasiuk K, Dudek FE, Staley KJ. Epileptogenesis. Cold Spring Harb Perspect Med. 2015;5(10):a022822. doi: 10.1101/cshperspect.a022822
- Ben-Ari Y. Epilepsies and neuronal plasticity: for better or for worse? Dialogues Clin Neurosci. 2008;10(1):17–27. doi: 10.31887/DCNS.2008.10.1/ybenari
- Park KI. Understanding epileptogenesis from molecules to network alteration. Encephalitis. 2024;4(3):47–54. doi: 10.47936/encephalitis.2024.00038
- Pitkänen A, Engel J Jr. Past and present definitions of epileptogenesis and its biomarkers. Neurotherapeutics. 2014;11(2):231–241. doi: 10.1007/s13311-014-0257-2
- Devinsky O, Vezzani A, Najjar S, et al. Glia and epilepsy: excitability and inflammation. Trends Neurosci. 2013;36(3):174–184. doi: 10.1016/j.tins.2012.11.008
- Kinboshi M, Ikeda A, Ohno Y. Role of astrocytic inwardly rectifying potassium (Kir) 4.1 channels in epileptogenesis. Front Neurol. 2020;11:626658. doi: 10.3389/fneur.2020.626658
- Rana A, Musto AE. The role of inflammation in the development of epilepsy. J Neuroinflammation. 2018;15(1):144. doi: 10.1186/s12974-018-1192-7
- Gautam V, Rawat K, Sandhu A, et al. An insight into crosstalk among multiple signaling pathways contributing to epileptogenesis. Eur J Pharmacol. 2021;910:174469. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174469
- Bonosi L, Benigno UE, Musso S, et al. The role of aquaporins in epileptogenesis — a systematic review. Int J Mol Sci. 2023;24(15):11923. doi: 10.3390/ijms241511923
- Gautam V, Rawat K, Sandhu A, et al. An insight into crosstalk among multiple signaling pathways contributing to epileptogenesis. Eur J Pharmacol. 2021;910:174469. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174469
- Walker LE, Sills GJ, Jorgensen A, et al. High-mobility group box 1 as a predictive biomarker for drug-resistant epilepsy: a proof-of-concept study. Epilepsia. 2022;63(1):e1–e6. doi: 10.1111/epi.17116
- Shen Y, Gong Y, Ruan Y, et al. Secondary epileptogenesis: common to see, but possible to treat? Front Neurol. 2021;12:747372. doi: 10.3389/fneur.2021.747372
- Lee R, Feinbaum R, Ambros V. A short history of a short RNA. Cell. 2004;116(2 Suppl):S89–S92, 1 p following S96. doi: 10.1016/s0092-8674(04)00035-2
- Henshall DC, Hamer HM, Pasterkamp RJ, et al. MicroRNAs in epilepsy: pathophysiology and clinical utility. Lancet Neurol. 2016;15(13):1368–1376. doi: 10.1016/S1474-4422(16)30246-0
- Shaked I, Meerson A, Wolf Y, et al. MicroRNA-132 potentiates cholinergic anti-inflammatory signaling by targeting acetylcholinesterase. Immunity. 2009;31(6):965–973. doi: 10.1016/j.immuni.2009.09.019
- Cheng X, Ku CH, Siow RC. Regulation of the Nrf2 antioxidant pathway by microRNAs: new players in micromanaging redox homeostasis. Free Radic Biol Med. 2013;64:4–11. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.07.025
- Wang J, Yu JT, Tan L, et al. Genome-wide circulating microRNA expression profiling indicates biomarkers for epilepsy. Sci Rep. 2015;5:9522. doi: 10.1038/srep09522
- Wang X, Sun Y, Tan Z, et al. Serum MicroRNA-4521 is a potential biomarker for focal cortical dysplasia with refractory epilepsy. Neurochem Res. 2016;41(4):905–912. doi: 10.1007/s11064-015-1773-0
- Salman MM, Sheilabi MA, Bhattacharyya D, et al. Transcriptome analysis suggests a role for the differential expression of cerebral aquaporins and the MAPK signalling pathway in human temporal lobe epilepsy. Eur J Neurosci. 2017;46(5):2121–2132. doi: 10.1111/ejn.13652
- Manley GT, Binder DK, Papadopoulos MC, Verkman AS. New insights into water transport and edema in the central nervous system from phenotype analysis of aquaporin-4 null mice. Neuroscience. 2004;129(4):983–991. doi: 10.1016/j.neuroscience.2004.06.088
- Kobylarek D, Iwanowski P, Lewandowska Z, et al. Advances in the potential biomarkers of epilepsy. Front Neurol. 2019;10:685. doi: 10.3389/fneur.2019.00685
- Hol EM, Pekny M. Glial fibrillary acidic protein (GFAP) and the astrocyte intermediate filament system in diseases of the central nervous system. Curr Opin Cell Biol. 2015;32:121–130. doi: 10.1016/j.ceb.2015.02.004
- Yang Z, Wang KK. Glial fibrillary acidic protein: from intermediate filament assembly and gliosis to neurobiomarker. Trends Neurosci. 2015;38(6):364–374. doi: 10.1016/j.tins.2015.04.003
- Wang Q, Lin Z, Yao C, et al. Meta-analysis of MMP-9 levels in the serum of patients with epilepsy. Front Neurosci. 2024;18:1296876. doi: 10.3389/fnins.2024.1296876
- Bronisz E, Cudna A, Wierzbicka A, Kurkowska-Jastrzębska I. Serum proteins associated with blood-brain barrier as potential biomarkers for seizure prediction. Int J Mol Sci. 2022;23(23):14712. doi: 10.3390/ijms232314712
- Meguid NA, Samir H, Bjørklund G, et al. Altered S100 calcium-binding protein B and Matrix Metallopeptidase 9 as biomarkers of mesial temporal lobe epilepsy with hippocampus sclerosis. J Mol Neurosci. 2018;66(4):482–491. doi: 10.1007/s12031-018-1164-5
- Ichiyama T, Nishikawa M, Yoshitomi T, et al. Tumor necrosis factor-alpha, interleukin-1 beta, and interleukin-6 in cerebrospinal fluid from children with prolonged febrile seizures. Comparison with acute encephalitis/encephalopathy. Neurology. 1998;50(2):407–411. doi: 10.1212/wnl.50.2.407
- Iughetti L, Lucaccioni L, Fugetto F, et al. Brain-derived neurotrophic factor and epilepsy: a systematic review. Neuropeptides. 2018;72:23–29. doi: 10.1016/j.npep.2018.09.005
- Shpak AA, Rider FK, Druzhkova TA, et al. Reduced levels of lacrimal glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) in patients with focal epilepsy and focal epilepsy with comorbid depression: a biomarker candidate. Int J Mol Sci. 2023;24(23):16818. doi: 10.3390/ijms242316818
- Zhao B, Shen LX, Ou YN, et al. Risk of seizures and subclinical epileptiform activity in patients with dementia: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2021;72:101478. doi: 10.1016/j.arr.2021.101478
- Ranasinghe KG, Kudo K, Hinkley L, et al. Neuronal synchrony abnormalities associated with subclinical epileptiform activity in early-onset Alzheimer’s disease. Brain. 2022;145(2):744–753. doi: 10.1093/brain/awab442
- Martin SP, Leeman-Markowski BA. Proposed mechanisms of tau: relationships to traumatic brain injury, Alzheimer’s disease, and epilepsy. Front Neurol. 2024;14:1287545. doi: 10.3389/fneur.2023.1287545
- Smith KM, Blessing MM, Parisi JE, et al. Tau deposition in young adults with drug-resistant focal epilepsy. Epilepsia. 2019;60(12):2398–2403. doi: 10.1111/epi.16375
- Shapiro LA, Bialowas-McGoey LA, Whitaker-Azmitia PM. Effects of S100B on serotonergic plasticity and neuroinflammation in the hippocampus in down syndrome and Alzheimer’s disease: studies in an S100B overexpressing mouse model. Cardiovasc Psychiatry Neurol. 2010;2010:153657. doi: 10.1155/2010/153657
- Meguid NA, Samir H, Bjørklund G, et al. Altered S100 calcium-binding protein B and matrix metallopeptidase 9 as biomarkers of mesial temporal lobe epilepsy with hippocampus sclerosis. J Mol Neurosci. 2018;66(4):482–491. doi: 10.1007/s12031-018-1164-5
- Langeh U, Singh S. Targeting S100B Protein as a surrogate biomarker and its role in various neurological disorders. Curr Neuropharmacol. 2021;19(2):265–277. doi: 10.2174/1570159X18666200729100427
- Abraira L, Santamarina E, Cazorla S, et al. Blood biomarkers predictive of epilepsy after an acute stroke event. Epilepsia. 2020;61(10):2244–2253. doi: 10.1111/epi.16648
- Shi LM, Chen RJ, Zhang H, et al. Cerebrospinal fluid neuron specific enolase, interleukin-1β and erythropoietin concentrations in children after seizures. Childs Nerv Syst. 2017;33(5):805–811. doi: 10.1007/s00381-017-3359-4
- Rabinowicz AL, Correale J, Boutros RB, et al. Neuron-specific enolase is increased after single seizures during inpatient video/EEG monitoring. Epilepsia. 1996;37(2):122–125. doi: 10.1111/j.1528-1157.1996.tb00002.x
- Correale J, Rabinowicz AL, Heck CN, et al. Status epilepticus increases CSF levels of neuron-specific enolase and alters the blood-brain barrier. Neurology. 1998;50(5):1388–1391. doi: 10.1212/wnl.50.5.1388
- Willert C, Spitzer C, Kusserow S, Runge U. Serum neuron-specific enolase, prolactin, and creatine kinase after epileptic and psychogenic non-epileptic seizures. Acta Neurol Scand. 2004;109(5):318–323. doi: 10.1046/j.1600-0404.2003.00232.x
- Chang CC, Lui CC, Lee CC, et al. Clinical significance of serological biomarkers and neuropsychological performances in patients with temporal lobe epilepsy. BMC Neurol. 2012;12:15. doi: 10.1186/1471-2377-12-15
- Yasak IH, Yilmaz M, GÖnen M, et al. Evaluation of ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 enzyme levels in patients with epilepsy. Arq Neuropsiquiatr. 2020;78(7):424–429. doi: 10.1590/0004-282x20200040
- Mondello S, Palmio J, Streeter J, et al. Ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCH-L1) is increased in cerebrospinal fluid and plasma of patients after epileptic seizure. BMC Neurol. 2012;12:85. doi: 10.1186/1471-2377-12-85
- Li Y, Wang Z, Zhang B, et al. Cerebrospinal fluid ubiquitin C-terminal hydrolase as a novel marker of neuronal damage after epileptic seizure. Epilepsy Res. 2013;103(2-3):205–210. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2012.08.001
- Tikhonova MA, Shvaikovskaya AA, Zhanaeva SY, et al. Concordance between the in vivo content of neurospecific proteins (BDNF, NSE, VILIP-1, S100B) in the hippocampus and blood in patients with epilepsy. Int J Mol Sci. 2023;25(1):502. doi: 10.3390/ijms25010502
- Tan Z, Jiang J, Tian F, et al. Serum Visinin-like protein 1 is a better biomarker than Neuron-specific enolase for seizure-induced neuronal injury: a prospective and observational study. Front Neurol. 2020;11:567587. doi: 10.3389/fneur.2020.567587