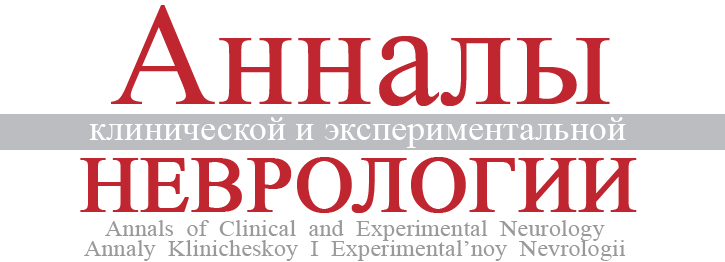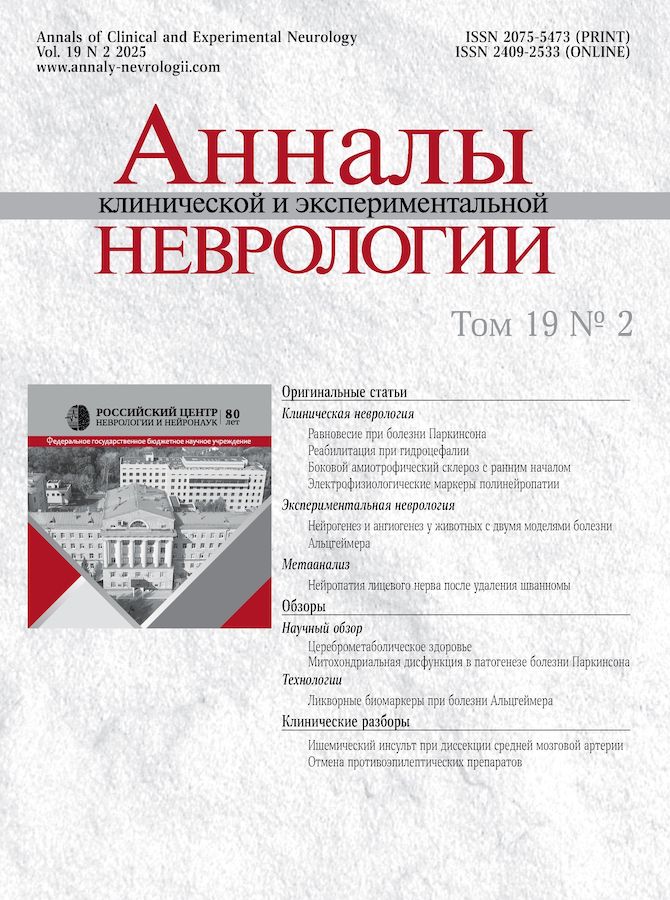Электрофизиологические маркеры химиоиндуцированной полинейропатии
- Авторы: Тихонова О.А.1, Дружинина Е.С.2, Дружинин Д.С.3
-
Учреждения:
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (Пироговский Университет)
- Ярославский государственный медицинский университет
- Выпуск: Том 19, № 2 (2025)
- Страницы: 34-40
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья получена: 31.01.2025
- Статья одобрена: 07.04.2025
- Статья опубликована: 26.06.2025
- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1283
- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1283
- EDN: https://elibrary.ru/HUVVST
- ID: 1283
Цитировать
Аннотация
Введение. Электрофизиологическое исследование является стандартом при диагностике полинейропатии. Пока его использование ограничено в онкологической практике у пациентов с химиоиндуцированной полинейропатией (ХИПН), а ценность полученных результатов не до конца понятна.
Цель исследования — выявить электрофизиологические маркеры ХИПН и оценить их чувствительность и специфичность.
Материалы и методы. В исследование были включены пациенты (n = 71) старше 18 лет с солидными злокачественными новообразованиями, предъявляющие полиневритические жалобы после нейротоксической терапии с использованием препаратов платины и таксанов. Исключались пациенты с известными факторами риска развития полинейропатии. Изучали электрофизиологические, клинические данные пациентов не ранее чем через 3 мес после старта химиотерапии.
Результаты. В ходе исследования выявлены электромиографические маркеры: индекс SRAR (sural/radial ratio — соотношение между амплитудой потенциала действия икроножного и лучевого нервов) и потенциал действия икроножного нерва с равной чувствительностью (73,7%) и высокой специфичностью (75 и 84,6% соответственно).
Заключение. Для диагностики и мониторинга ХИПН в ежедневной практике могут использоваться электромиографические показатели, такие как SRAR и потенциал действия икроножного нерва.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Развитие химиоиндуцированной полинейропатии (ХИПН) у пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО) является частым неврологическим осложнением [1]. Симптомы ХИПН могут быть гетерогенными: от лёгких до тяжёлых проявлений, которые существенно ухудшают качество жизни пациента и требуют снижения дозы химиотерапевтических препаратов или даже полного прекращения лечения, что, в свою очередь, может негативно сказаться на общей выживаемости пациентов с ЗНО. Одна из ключевых проблем — симптомы ХИПН могут развиваться постепенно и быть не всегда очевидными на ранних стадиях, а также прогрессировать после завершения химиотерапии. Диагноз ХИПН устанавливается на основании жалоб и клинической оценки пациента, несмотря на наличие золотого стандарта в диагностике полинейропатии (ПНП) — электромиографии (ЭМГ) [2, 3]. Электрофизиологические данные являются объективными маркерами для мониторинга и понимания патологии периферической нервной системы. Однако большинство пациентов с ЗНО с развитием ПНП в рутинной клинической практике не проходят данное исследование. Вероятно, это связано с ограниченной доступностью, нехваткой алгоритмов для диагностики ХИПН, практическими и финансовыми трудностями, возникающими при проведении таких тестов в условиях перегрузки онкологической службы, и противоречивыми данными о необходимости нейрофизиологического обследования у данной группы пациентов [4–6]. Это подчёркивает важность определения электрофизиологических маркеров для оценки состояния периферической нервной системы у пациентов, проходящих курс химиотерапии, накопления достаточного количества достоверных данных с последующим их внедрением в клиническую практику.
Цель исследования — выявить электрофизиологические маркеры ХИПН и определить их чувствительность и специфичность.
Материалы и методы
В исследование включены пациенты (n = 71) с солидными ЗНО органов желудочно-кишечного тракта (n = 34; 48%), органов дыхания (n = 9; 12,6%) и органов малого таза (n = 28; 39,4%).
Критерии включения:
- возраст старше 18 лет;
- солидные ЗНО органов дыхания и желудочно-кишечного тракта и органов малого таза с обязательным гистологическим подтверждением онкологического диагноза;
- наличие полиневритических жалоб;
- впервые проводимая химиотерапия.
Критерии исключения:
- наличие в анамнезе иных ПНП и заболеваний (сахарный диабет, парапротеинемические гемобластозы, системные заболевания соединительной ткани, васкулиты, гепатит С, ВИЧ);
- приём алкоголя и лекарственных средств (амиодарон, метронидазол и др.), способных вызвать ПНП.
У всех пациентов регистрировали демографические показатели (возраст, пол), проводили стандартное неврологическое обследование с оценкой поверхностной и глубокой чувствительности, рефлексов и мышечной силы по шкале MRC [7]. Степень выраженности ПНП определяли по шкале нейропатического дисфункционального счета (Neuropathy Disability Score; NDS) [8], степень нейротоксичности — по шкале National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI-CTCAE), версия 5.0, 2021 [9]. Нейрофизиологическое исследование выполняли с соблюдением температурного режима на электромиографе «Dantec Keypoint» («Medtronic») [10].
Протокол электромиографии включал длинные нервы конечностей, за исключением срединного и локтевого нервов из-за их уязвимости для развития туннельных нейропатий, показатели сенсорных волокон: амплитуду потенциала действия (ПД) и скорость проведения, а также показатели моторных волокон: амплитуду М-волны, дистальную латентность и скорость проведения, минимальную латентность F-волны, дисперсию ответов, учитывали наличие блоков проведения. Полученные данные сравнивали с нормативными значениями [11], а также рассчитывали SRAR (sural/radial ratio) — соотношение между амплитудой ПД икроножного (n. suralis) и лучевого (n. radialis) нервов, так как считается, что данный показатель наиболее чувствителен при поражении аксонов толстых волокон и не зависит от возраста и индекса массы тела по данным большинства исследований [12–14]. В результате рассчитывали среднюю величину каждого оцениваемого показателя для правой и левой стороны.
Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования одобрен независимым этическим комитетом Центра клинических исследований Балтийского федерального университета им. И. Канта (заключение № 35 от 27.10.2022).
Статистическую обработку проводили с использованием программ «StatTech v. 4.2.8» («Статтех») и «GraphPad Prism 8.0.1» («Insightful Science»). Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. При наличии нормального распределения количественные данные описывали в виде среднего арифметического (M) и стандартного отклонения (SD) и 95% доверительного интервала (ДИ), а в случае отсутствия нормального распределения — с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1; Q3). Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей, 95% ДИ для процентных долей рассчитывали по методу Клоппера–Пирсона. Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при условии равенства дисперсий выполняли с помощью t-критерия Стьюдента, а по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, — с помощью U-критерия Манна–Уитни.
Для оценки диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании определённого исхода применяли ROC-анализ с определением точки cut-off по наивысшему значению индекса Юдена. Учитывали модели с AUC > 0,7 с 95% ДИ больше 0,5, а статистическая значимость построенной модели должна была соответствовать p < 0,05.
Результаты
Средний возраст больных (49 (69%) женщин и 22 (31%) мужчины) составил 59,0 ± 10,1 года. Осмотр пациентов осуществлён через 4,50 ± 1,02 мес после химиотерапии, количество курсов составило 5,2 ± 1,5. Пациенты в основном получали препараты платины и таксаны (табл. 1).
Таблица 1. Схемы терапии
Схема | Количество |
CAPOX(XELOX) (оксалиплатин + капецитабин) | 17 (23,6) |
FLOT (оксалиплатин + доцетаксел + кальция фолинат + фторурацил) | 6 (8,3) |
FOLFOX (оксалиплатин + кальция фолинат + фторурацил) | 11 (15,3) |
Гемцитабин + цисплатин | 1 (1,4) |
Доксорубицин + цисплатин/доксорубицин + карбоплатин | 1 (1,4) |
Доцетаксел | 1 (1,4) |
Карбоплатин/цисплатин + доцетаксел | 5 (7,1) |
Карбоплатин/цисплатин + паклитаксел/этопозид | 5 (7,1) |
Карбоплатин + доцетаксел | 3 (4,2) |
Карбоплатин + паклитаксел | 17 (23,6) |
Карбоплатин/цисплатин + паклитаксел | 3 (4,2) |
Этопозид + цисплатин/доцетаксел/паклитаксел + | 1 (1,4) |
Всего | 71 (100) |
Сенсорные жалобы предъявляли все пациенты, включённые в исследование. При проведении неврологического осмотра с оценкой по шкалам убедительные изменения в клинической картине, соответствовавшей ХИПН, выявлены у 52 (73%) пациентов. Зафиксировано снижение и/или отсутствие карпорадиального и ахиллового рефлексов, разных модальностей чувствительности с дебютом заболевания с нижних конечностей. Клинический паттерн и электрофизиологические данные пациентов демонстрировали длиннозависимую, преимущественно сенсорную ПНП. Изменение моторной функции со снижением дистальной мышечной силы разгибателей стоп зафиксировано только в 5 (7%) случаях на фоне приёма доцетаксела и карбоплатина. По шкале NDS нейропатия развивалась (> 5 баллов) у 52 (73%) пациентов, а по шкале NCI-CTCAE нейротоксичность 1-й и 2-й степени обнаружена у 62 (87,3%) пациентов.
По результатам электрофизиологического исследования ПД сенсорных нервов ниже нормативных значений выявлены у 46 (65%) пациентов при регистрации с поверхностного малоберцового нерва, у 29 (41%) — с икроножного, у 21 (30%) — с лучевого. Показатели моторных волокон (дистальная латентность, амплитуда М-волны, скорость проведения), регистрируемые при исследовании малоберцового (n. peroneus) и большеберцового (n. tibialis) нервов, сохранялись выше нормы, поэтому при дальнейшем анализе данные параметры не использовали.
За пределы нормы выходил лишь показатель амплитуды ПД поверхностного малоберцового нерва — 3,0 мкВ (табл. 2). SRAR 0,43 ± 0,31 был выше опубликованных ранее нормативных параметров [12–14]. По данным электромиографии, изменений, свидетельствующих о демиелинизации согласно критериям EFNS/PNS 2021, не обнаружено [15].
Таблица 2. Результаты электрофизиологического исследования
Исследуемый нерв | Параметр | M ± SD | Норма |
Глубокий малоберцовый нерв | Дистальная латентность, мс | ≤ 6,5 | |
Амплитуда дистальной моторной | 3,41 ± 1,58 (3,03–3,78) | ≥ 2,0 | |
Скорость проведения по моторным | ≥ 44 | ||
Большеберцовый нерв | Дистальная латентность, мс | 3,49 ± 0,63 (3,34–3,64) | ≤ 5,8 |
Амплитуда дистальной моторной | 9,07 ± 3,77 (8,17–9,96) | ≥ 4,0 | |
Скорость проведения по | 45,31 ± 3,98 (44,37–46,25) | ≥ 44 | |
Минимальная латентность | ≤ 56 | ||
Поверхностный | Амплитуда ПД, мкВ | ≥ 6 | |
Скорость проведения по | ≥ 40 | ||
Икроножный нерв | Амплитуда ПД, мкВ | ≥ 6,0 | |
Скорость проведения по | ≥ 40 | ||
Поверхностная ветвь | Амплитуда ПД, мкВ | ≥ 15 | |
Скорость проведения по | ≥ 50 | ||
SRAR | 0,43 ± 0,31 (0,36–0,50) | ≥ 0,21 (0,4) | |
При анализе взаимосвязи электрофизиологических данных и наличия ХИПН и степени её выраженности по шкале NDS выявили значимые изменения для всех показателей (р < 0,05), более выраженные для поверхностного малоберцового, икроножного нервов и SRAR (p < 0,001; табл. 3).
Таблица 3. Анализ зависимости индекса SRAR и амплитуды ПД сенсорного нерва от степени ХИПН по шкале NDS
Параметр | Степень нейропатии | M ± SD | р |
SRAR | Норма | 0,65 ± 0,36 (0,48–0,83) | < 0,001 |
Умеренная | 0,38 ± 0,25 (0,30–0,46) | ||
Выраженная | 0,23 ± 0,18 (0,11–0,35) | ||
Амплитуда ПД | Норма | 14,59 ± 6,63 (11,40–17,79) | < 0,001 |
Умеренная | 7,22 ± 5,08 (5,62–8,82) | ||
Выраженная | 3,58 ± 3,02 (1,55–5,61) | ||
Амплитуда ПД | Норма | 0,004 | |
Умеренная | |||
Выраженная | |||
Амплитуда ПД | Норма | < 0,001 | |
Умеренная | |||
Выраженная |
Примечание. Степень выраженности по шкале NDS: норма — 0–4 балла, умеренная — 5–13 баллов, выраженная — 14–28 баллов.
Полученные данные подтверждают, что чем меньше значения рассматриваемых электрофизиологических параметров, тем более выражена степень ХИПН.
Для оценки специфичности и чувствительности параметров ПД сенсорных нервов при ХИПН использовали RОС-анализ. Все модели были статистически значимыми и соответствовали допустимой площади и 95% ДИ, но различались по чувствительности и специфичности (табл. 4).
Таблица 4. ROC-анализ амплитуд ПД сенсорных нервов и индекса SRAR
Параметр | AUC | 95% ДИ | Cut-off, мкВ | Чувствительность | Специфичность |
ПД | |||||
малоберцового нерва | 0,764 ± 0,070 | 0,628–0,901 | 4,30 | 78,9 | 67,3 |
икроножного нерва | 0,835 ± 0,061 | 0,715–0,955 | 11,65 | 73,7 | 84,6 |
лучевого нерва | 0,705 ± 0,074 | 0,560–0,851 | 19,20 | 84,2 | 55,8 |
SRAR | 0,778 ± 0,068 | 0,644–0,911 | 0,49 | 73,7 | 75,0 |
Наиболее чувствительными и специфичными для оценки развития ХИПН были амплитуда ПД икроножного нерва и SRAR (рис. 1), менее специфичными — амплитуда ПД поверхностного малоберцового и лучевого нервов.
Рис. 1. ROC-кривая, чувствительность и специфичность модели, характеризующая зависимость вероятности развития ХИПН от ПД икроножного нерва (А) и SRAR (В).
Обсуждение
В данном исследовании проведён анализ нейрофизиологических параметров у пациентов c ЗНО после химиотерапии с оценкой их взаимосвязи с клинической картиной с целью выявить электрофизиологические маркеры, которые легко воспроизводимы для каждого нейрофизиолога. Пациенты с известными факторами риска развития ХИПН [16–18] были целенаправленно исключены из исследования.
Вошедшие в исследование пациенты с солидными ЗНО в основном получали препараты платины и таксаны, а развитие ХИПН мы наблюдали в 73% случаев, хотя жалобы присутствовали у всех пациентов. Следовательно, делать вывод о наличии ХИПН по субъективной оценке пациента нельзя, что было ранее озвучено в исследованиях [19, 20].
На основании клинических данных и результатов электрофизиологических исследований установлено, что у пациентов преобладала сенсорная аксональная длиннозависимая ПНП, признаков миелинопатии не обнаружено. Полученные результаты согласуются с итогами ранее проведённых исследований [21–24]. Согласно большинству данных литературы, ХИПН является зависимой от длины аксональной невропатией, поэтому снижение амплитуды ПД икроножного нерва будет наблюдаться раньше, чем амплитуды поверхностного лучевого нерва, следовательно, изменение индекса SRAR может быть характерным для ранней стадии нейропатии. Однако в проспективном исследовании В. Myftiu и соавт. при ХИПН, индуцированной препаратами платины и таксанов, кроме поражения аксонов, были зарегистрированы признаки снижения скорости проведения по моторным волокнам [25]. При этом в представленных данных отмечено снижение скорости проведения менее 25% от нижней границы нормативных значений, что при типичном аксональном паттерне может объясняться быстрой потерей крупных миелинизированных волокон и, следовательно, не должно рассматриваться как первичная демиелинизация [3]. Таким образом, важно учитывать, что аксональные изменения могут влиять на скорость проведения, без достоверных признаков демиелинизации.
Полученные нами средние значения SRAR приближались к опубликованным ранее данным 1997 г., где SRAR был равен 0,4 [13], но отличались от результатов исследований 2005 г. (0,21) [11, 12]. При проведении ROC-анализа и определении точки cut-off с поправкой на индекс Юдена для SRAR получили значение 0,49, превышение которого считалось проявлением ХИПН, что также ближе к результату, полученному в исследовании 1997 г. [13], нежели в 2005 г. [11, 12]. Скорее всего, это было связано с дизайном исследований и выборкой пациентов. В работе 1997 г. SRAR рассчитывали у пациентов с развитием ПНП, а в 2005 г. — на здоровой популяции. В проведённых ранее исследованиях SRAR не зависел от возраста [11–13]. Однако в исследовании на индийской популяции 2020 г. [26] на 146 пациентах были получены другие нормативные значения, где было показано влияние возраста на индекс. Таким образом, в литературе нет единого мнения о нормативных значениях SRAR и влиянии на него возраста, что, безусловно, требует дальнейшего изучения и может является ограничением нашего исследования.
При оценке чувствительности и специфичности электрофизиологических маркеров при развитии ХИПН, по нашим данным, все модели были значимыми. Наиболее высокой чувствительностью и специфичностью обладали SRAR (73,7 и 75,0% соответственно) и ПД икроножного нерва (73,7 и 84,6%), то есть чувствительность данных показателей была равной, а специфичность была на 9,6% выше у икроножного нерва. Для ПД лучевого и поверхностного малоберцового нерва специфичность оказалась ниже 70%, хотя чувствительность была высокой. Наши данные не совсем согласуются с единственным исследованием у пациентов с ЗНО, по результатам которого чувствительность SRAR составляла 56% и специфичность — 77%, а амплитуды ПД — 64 и 70% соответственно [27]. В результате сделан вывод о том, что SRAR не является наиболее чувствительным и специфичным по сравнению с амплитудой ПД икроножного нерва, хотя специфичность у него была выше на 7%. Мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что в исследование вошли пациенты без учёта анамнестических данных, способствующих развитию ПНП.
Заключение
Клиническая оценка развития ХИПН ограничена субъективностью получаемых данных от самого пациента и не согласуется с результатами неврологического осмотра. Электромиографические маркеры (SRAR и амплитуды ПД икроножного нерва) могут быть использованы для объективной оценки развития ХИПН, способствуя раннему выявлению нейропатии толстых волокон у больных с ЗНО, что позволит корректировать терапевтическую стратегию и улучшать качество жизни пациентов данной категории. Влияние возраста пациентов на SRAR требует дальнейших исследований на более крупной выборке пациентов.
Вклад авторов: Тихонова О.А. — проведение научного исследования, анализ и интерпретация данных, написание текста статьи; Дружинина Е.С. — анализ и интерпретация нейрофизиологических и клинических проявлений, написание текста статьи; Дружинин Д.С. — разработка концепции и дизайна статьи, обоснование и окончательное утверждение рукописи для публикации.
Этическое утверждение. Исследование проводилось при добровольном информированном согласии пациентов. Протокол исследования одобрен этическим комитетом Центра клинических исследований БФУ им. И. Канта (заключение № 35 от 27.10.2022).
Источник финансирования. Данная работа была поддержана из средств программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» БФУ им. И. Канта.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Ethics approval. All patients provided their voluntary informed consent to participate in the study. The study protocol was approved by the Ethics Committee of the Clinical Research Center at Immanuel Kant Baltic Federal University (Conclusion No. 35 dated October 27, 2022).
Source of funding. This work was supported by the Strategic Academic Leadership Program “Priority 2030” of the Immanuel Kant Baltic Federal University.
Conflict of interest. The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
Authors’ contribution: Tikhonova O.A. — conducting scientific research, analyzing and interpreting data, writing the text of the article; Druzhinina E.S. — analysis and interpretation of neurophysiological and clinical manifestations, writing the text of the article; Druzhinin D.S. — conceptualization and design of the article, justification and final approval of the manuscript for publication.
Об авторах
Ольга Алексеевна Тихонова
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Автор, ответственный за переписку.
Email: offelia78@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1796-0193
врач-невролог, ассистент каф. психиатрии и нейронаук
Россия, 236041, Калининград, ул. А. Невского, д. 14Евгения Сергеевна Дружинина
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (Пироговский Университет)
Email: offelia78@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1004-992X
кандидат медицинских наук, доцент каф. неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. акад. Л.О. Бадаляна педиатрического факультета
Россия, МоскваДмитрий Сергеевич Дружинин
Ярославский государственный медицинский университет
Email: offelia78@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6244-0867
доктор медицинских наук, доцент каф. нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией
Россия, ЯрославльСписок литературы
- Seretny M, Currie GL, Sena ES, et al. Incidence, prevalence, and predictors of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a systematic review and meta-analysis. Pain. 2014;155(12):2461–2470. doi: 10.1016/j.pain.2014.09.020
- Fuglsang-Frederiksen A, Pugdahl K. Current status on electrodiagnostic standards and guidelines in neuromuscular disorders. Clin Neurophysiol. 2011;122(3):440–455. doi: 10.1016/j.clinph.2010.06.025
- Novello BJ, Pobre T. Electrodiagnostic evaluation of peripheral neuropathy. Treasure Island; 2025.
- Griffith KA, Dorsey SG, Renn CL, et al. Correspondence between neurophysiological and clinical measurements of chemotherapy‐induced peripheral neuropathy: secondary analysis of data from the CI‐PERINOMS study. J Peripher Nerv Syst. 2014;19(2):127–135. doi: 10.1111/jns5.12064
- Cho KH, Han EY, Shin JC, et al. Comparison of clinical symptoms and neurophysiological findings in patients with chemotherapy induced peripheral neuropathy. Front Neurol. 2022;13:838302. doi: 10.3389/fneur.2022.838302
- Wang M, Bandla A, Sundar R, Molassiotis A. The phenotype and value of nerve conduction studies in measuring chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a secondary analysis of pooled data. Eur J Oncol Nurs. 2022; 60:102196. doi: 10.1016/j.ejon.2022.102196
- Супонева Н.А., Арестова А.С., Мельник Е.А. и др. Валидация шкалы суммарной оценки мышечной силы (MRC sum score) для использования у русскоязычных пациентов с хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатией. Нервно-мышечные болезни. 2023;13(1):68–74. Suponeva NA, Arestova AS, Melnik EA, et al. Validation of the Medical Research Council sum score (MRCss) for use in Russian-speaking patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Neuromuscular Diseases. 2023;13(1):68–74. doi: 10.17650/2222-8721-2023-13-1-68-74
- Mooi CS, Lee KW, Yusof Khan AHK, et al. Using biothesiometer, Neuropathy Symptom Score, and Neuropathy Disability Score for the early detection of peripheral neuropathy: a cross-sectional study. Qatar Med J. 2024;2024(3):24. doi: 10.5339/qmj.2024.24
- Using the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE — Version 5.0) to Evaluate the Severity of Adverse Events of Anticancer Therapies. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2021;112(1):90–92. doi: 10.1016/j.ad.2019.05.009
- Stålberg E, Van Dijk H, Falck B, et al. Standards for quantification of EMG and neurography. Clin Neurophysiol. 2019;130(9):1688–1729. doi: 10.1016/j.clinph.2019.05.008
- Electromyography and neuromuscular disorders: clinical-electrodiagnostic-ultrasound correlations, Fourth Edition. J Clin Neurophysiol. 2021;38(4):e19. doi: 10.1097/WNP.0000000000000842
- Esper GJ, Nardin RA, Benatar M, et al. Sural and radial sensory responses in healthy adults: diagnostic implications for polyneuropathy. Muscle Nerve. 2005;31(5):628–632. doi: 10.1002/mus.20313
- Overbeek BUH, Van Alfen N, Bor JA, Zwarts MJ. Sural/radial nerve amplitude ratio: reference values in healthy subjects. Muscle Nerve. 2005;32(5):613–618. doi: 10.1002/mus.20421
- Rutkove SB, Kothari MJ, Raynor EM, et al. Sural/radial amplitude ratio in the diagnosis of mild axonal polyneuropathy. Muscle Nerve. 1997;20(10):1236–1241. doi: 10.1002/(sici)1097-4598(199710)20:10<1236::aid-mus5>3.0.co;2-d
- Van Den Bergh PYK, Van Doorn PA, Hadden RDM, et al. European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society guideline on diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint Task Force — Second revision. J Peripher Nerv Sys. 2021;26(3):242–268. doi: 10.1111/jns.12455
- Ghoreishi Z, Keshavarz S, Asghari Jafarabadi M, et al. Risk factors for paclitaxel-induced peripheral neuropathy in patients with breast cancer. BMC Cancer. 2018;18(1):958. doi: 10.1186/s12885-018-4869-5
- Jordan B, Jahn F, Sauer S, Jordan K. Prevention and management of chemotherapy-induced polyneuropathy. Breast Care (Basel). 2019;14(2):79–84. doi: 10.1159/000499599
- Timmins HC, Mizrahi D, Li T, et al. Metabolic and lifestyle risk factors for chemotherapy-induced peripheral neuropathy in taxane and platinum-treated patients: a systematic review. J Cancer Surviv. 2023;17(1):222–236. doi: 10.1007/s11764-021-00988-x
- Morton RF, Sloan JA, Grothey A, et al. A comparison of simple single-item measures and the common toxicity criteria in detecting the onset of oxaliplatin-induced peripheral neuropathy in patients with colorectal cancer. JCO. 2005;23(16):8087. doi: 10.1200/jco.2005.23.16_suppl.8087
- Park SB, Kwok JB, Asher R, et al. Clinical and genetic predictors of paclitaxel neurotoxicity based on patient- versus clinician-reported incidence and severity of neurotoxicity in the ICON7 trial. Ann Oncol. 2017;28(11):2733–2740. doi: 10.1093/annonc/mdx491
- Burakgazi AZ, Messersmith W, Vaidya D, et al. Longitudinal assessment of oxaliplatin-induced neuropathy. Neurology. 2011;77(10):980–986. doi: 10.1212/WNL.0b013e31822cfc59
- Molassiotis A, Cheng HL, Lopez V, et al. Are we mis-estimating chemotherapy-induced peripheral neuropathy? Analysis of assessment methodologies from a prospective, multinational, longitudinal cohort study of patients receiving neurotoxic chemotherapy. BMC Cancer. 2019;19(1):132. doi: 10.1186/s12885-019-5302-4
- Холодова Н.Б., Понкратова Ю.А., Синкин М.В. Клинические и электронейромиографические особенности постхимиотерапевтической полинейропатии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;117(9):59–66. Kholodova NB, Ponkratova YuA, Sinkin MV. Clinical and electromyography characteristics of chemotherapy-induced polyneuropathy. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2017;117(9):59–66. doi: 10.17116/jnevro20171179159-66
- Kim SH, Kim W, Kim JH, et al. A Prospective study of chronic oxaliplatin-induced neuropathy in patients with colon cancer: long-term outcomes and predictors of severe oxaliplatin-induced neuropathy. J Clin Neurol. 2018;14(1):81–89. doi: 10.3988/jcn.2018.14.1.81
- Myftiu B, Hundozi Z, Sermaxhaj F, et al. Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) in patients receiving 4–6 cycles of platinum-based and taxane-based chemotherapy: a prospective, single-center study from Kosovo. Med Sci Monit. 2022;28: e937856. doi: 10.12659/MSM.937856.
- Mansukhani K, Dhonde M, Sreenivasan A, et al. Sural radial amplitude ratio: a study in healthy Indian subjects. Ann Indian Acad Neurol. 2020;23(3):255–260. doi: 10.4103/aian.AIAN_321_20
- Guo Y, Palmer JL, Brown XS, Fu JB. Sural and radial sensory responses in patients with sensory polyneuropathy. Clin Med Rev Case Rep. 2015;2(3):049. doi: 10.23937/2378-3656/1410049