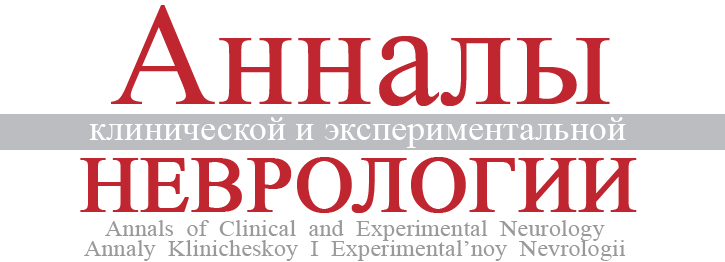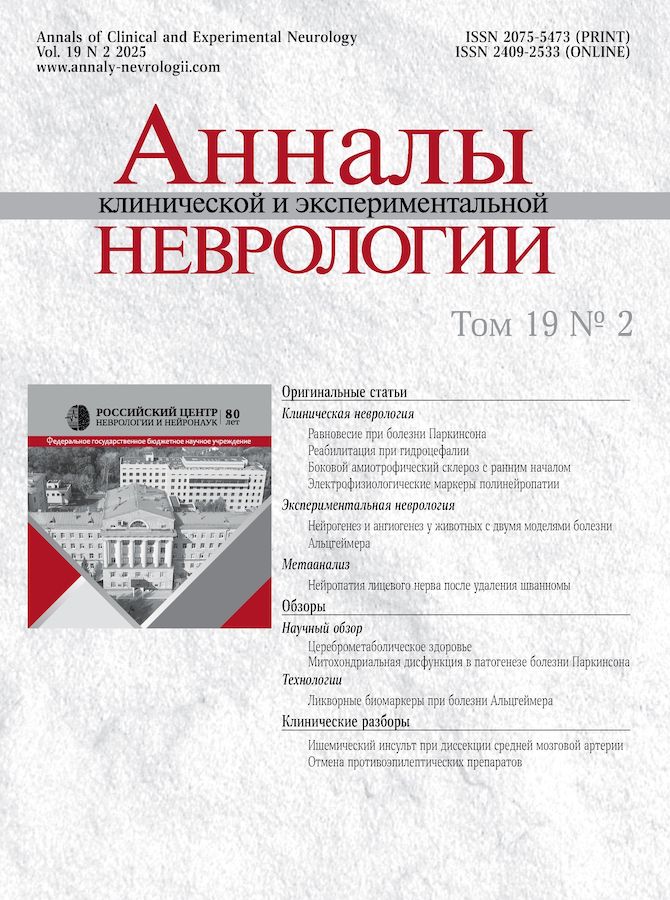Боковой амиотрофический склероз с ранним началом: генетическая структура и фенотипические особенности
- Авторы: Шевчук Д.В.1, Абрамычева Н.Ю.1, Проценко А.Р.1, Гришина Д.А.1, Макарова А.Г.1, Захарова М.Н.1
-
Учреждения:
- Российский центр неврологии и нейронаук
- Выпуск: Том 19, № 2 (2025)
- Страницы: 25-33
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья получена: 31.03.2025
- Статья одобрена: 16.04.2025
- Статья опубликована: 26.06.2025
- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1317
- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1317
- EDN: https://elibrary.ru/FPUSFS
- ID: 1317
Цитировать
Аннотация
Введение. Боковой амиотрофический склероз с ранним началом (рнБАС) представляет собой редкое нейродегенеративное заболевание, характеризующееся началом клинических проявлений до 45-летнего возраста. Глобальная распространённость, заболеваемость и генетическая структура рнБАС остаются в значительной степени неизвестными, а диагноз основывается преимущественно на клинической картине, нейрофизиологических исследованиях и молекулярно-генетическом анализе.
Целью данного исследования является анализ случаев рнБАС, наблюдавшихся в Российском центре неврологии и нейронаук.
Материалы и методы. Проанализировано 365 случаев БАС, по возрасту дебюта критериям рнБАС удовлетворяли 47 (12,8%) пациентов, которые были включены в настоящее исследование. Всем пациентам проводили необходимый объём диагностических вмешательств для исключения/установления диагноза, анализировали кодирующую последовательность гена SOD1 и исследовали размер области тандемных гексануклеотидных повторов (GGGGCC)n в гене C9orf72, в отдельных случаях проводили массовое параллельное секвенирование.
Результаты. У 15 (32%) пациентов обнаружены мутации в каузальных генах БАС: в 15% случаев — варианты в кодирующей последовательности гена SOD1 и 3’UTR-области, в 8,7% — экспансия гексануклеотидных повторов (GGGGCC)n в гене C9orf72; в 4 (8,5%) случаях рнБАС методом массового параллельного секвенирования выявлены мутации в генах FUS, UBQLN2 и FIG4.
Заключение. Ранняя идентификация как спорадических, так и семейных форм рнБАС и установление их молекулярно-генетических основ имеют решающее значение для своевременного генетического консультирования и выявления потенциально поддающихся терапии этиологий.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Боковой амиотрофический склероз (БАС) представляет собой основную форму как спорадических, так и наследственных нейродегенеративных заболеваний взрослых, известных под общим названием «болезнь двигательного нейрона» [1]. БАС чаще встречается среди мужчин, а соотношение полов в большинстве популяций составляет от 1,2 : 1,0 до 1,7 : 1,0 [2]. Большинство случаев заболевания классифицируются как спорадический БАС, в то время как 10% пациентов имеют семейный анамнез заболевания, причём у двух третей из них выявляются мутации в генах, ассоциированных с БАС [3]. Несмотря на то что чаще всего БАС манифестирует в возрасте 50–70 лет, в 10% случаев заболевание начинается в более молодом возрасте — с появления симптомов до 45 лет и классифицируется как БАС с ранним началом (рнБАС) [4]. Эта подгруппа заболевания встречается редко и, следовательно, исследования, посвящённые этой возрастной группе, крайне ограничены [5, 6], но тем не менее рнБАС рассматривается как вариант «классического» БАС с сочетанным поражением верхнего и нижнего мотонейронов и, как правило, представлен спорадическими случаями. рнБАС характеризуется рядом клинических особенностей, включающих более редкий бульбарный дебют, преобладание признаков поражения верхнего мотонейрона, а также более продолжительную выживаемость [7, 8]. Фенотип с ранним началом заболевания, по данным клинических когортных исследований, является независимым прогностическим фактором более длительной выживаемости [7].
Крайне редкая подгруппа, обычно включаемая в когорту пациентов с рнБАС, состоит из случаев ювенильного БАС (юБАС), который определяется как форма с началом клинических проявлений до достижения 25 лет [7]. Глобальная распространённость и заболеваемость юБАС остаются в значительной степени неизвестными. В одном из немногих многоцентровых исследований по этой проблеме, проведённом в Европе и включавшем данные из 46 специализированных центров по изучению БАС, распространённость юБАС была оценена как 0,008 случая на 100 000 населения в год при начале симптомов до 18 лет, что составляет менее 0,1% всех случаев заболевания [9]. В португальской когорте пациентов с БАС молодого возраста на долю юБАС приходилось 14,3% случаев [6]. С момента внедрения в клиническую практику методов массового параллельного секвенирования наблюдается значительное расширение знаний о патофизиологических механизмах юБАС, а также улучшение понимания его естественного течения и клинических проявлений при различных моногенных формах заболевания.
Существует несколько важных отличий между формами БАС с ювенильным дебютом и началом симптоматики во взрослом возрасте. Во-первых, при юБАС отмечается более весомый вклад генетических факторов: примерно 40% случаев обусловлены специфическими мутациями в БАС-специфичных генах [10, 11], в то время как при форме с началом симптомов во взрослом возрасте этот показатель составляет около 10% [11]. Наиболее часто с ювенильным дебютом заболевания связывают мутации в генах FUS, SETX и ALS2, также имеются описания заболевания, ассоциированного с мутациями в генах SPG11, SOD1, SPTLC1, UBQNL2, SIGMAR1 и др. Мутации в гене C9orf72 — наиболее распространённо наследуемые в случае начала симптомов во взрослом возрасте, в случаях юБАС не зарегистрированы. Во-вторых, важной отличительной особенностью юБАС является полисиндромное течение, при котором наблюдается вовлечение в патологической процесс других отделов центральной или периферической нервной системы, помимо верхнего и нижнего мотонейронов.
В патологический процесс при юБАС могут быть вовлечены различные нейрональные пути, а также, хотя и значительно реже, зоны головного мозга, отвечающие за когнитивные функции и эмоции, и в редких случаях сенсорные корковые области. Выявлен ряд генетических подтипов заболевания, ассоциированных с различными нарушениями функций нейронов и глиальных клеток [6]. Потеря мотонейронов при рнБАС и юБАС обусловлена множеством патофизиологических механизмов, аналогичных таковым при типичных формах спорадического и семейного БАС [1]. Имеются значительные патофизиологические и генетические совпадения юБАС с другими наследственными неврологическими заболеваниями, включая наследственные спастические параплегии, аксональные формы наследственной моторно-сенсорной невропатии, спинальные мышечные атрофии, не связанные с локусом 5q, аутосомно-рецессивные мозжечковые атаксии и наследственные нейрометаболические заболевания [12–14].
С учётом расширения доступных диагностических методик и развития новых терапевтических стратегий, основанных на антисмысловых олигонуклеотидах и вирусных векторах в рамках генной терапии, крайне важно систематизировать имеющиеся данные и актуализировать современные представления об рнБАС. В настоящем исследовании представлены основные клинические и генетические аспекты у пациентов с рнБАС, а также возможные направления терапии этого тяжёлого заболевания.
Цель исследования — анализ случаев рнБАС, наблюдавшихся в Российском центре неврологии и нейронаук (РЦНН).
Материалы и методы
На базе 6-го неврологического отделения и молекулярно-генетической лаборатории 5-го неврологического отделения РЦНН за 2022–2025 гг. было проанализировано 365 случаев БАС, из них по возрасту дебюта критериям рнБАС удовлетворяли 47 (12,8%) пациентов, которые были включены в настоящее исследование.
Каждому пациенту проводился необходимый объём диагностических вмешательств для исключения/установления диагноза БАС согласно пересмотренным критериям El Escorial [15] и Gold Coast от 2019 г. [16]. C целью диагностики когнитивных нарушений использовали Эдинбургскую шкалу оценки степени нарушения когнитивных функций и поведения у пациентов с БАС [17]. Кроме основных клинических, нейрофизиологических и нейровизуализационных методов исследования, всем пациентам проведено молекулярно-генетическое исследование: анализ кодирующей последовательности гена SOD1 методом прямого капиллярного секвенирования по Сэнгеру; исследование размера области тандемных гексануклеотидных повторов (GGGGCC)n в гене C9orf72 методом анализа длин амплифицированных фрагментов с применением полимеразной цепной реакции с дополнительным праймером на область повторов. В отдельных случаях пациентам с рнБАС и юБАС проводили массовое параллельное секвенирование. Результаты панельного, полноэкзомного секвенирования были предоставлены пациентами из других медицинских учреждений.
Валидацию выявленных патогенных, вероятно патогенных и вариантов неопределённого клинического значения проводили методом капиллярного секвенирования на генетическом анализаторе «Нанофор 05» («НПФ Синтол») в молекулярно-генетической лаборатории 5-го неврологического отделения РЦНН.
Получено письменное информированное согласие пациентов на участие в исследовании, обработку и представление полученных данных. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом РЦНН (протокол № 2-5/23 от 15.02.2023).
Результаты
В исследование включено 365 пациентов с установленным согласно действующим критериям диагнозом БАС. При этом 47 (12,8%) пациентов соответствовали возрасту рнБАС. Среди них было выявлено 15 (32%) пациентов — носителей мутаций в генах, ассоциированных с развитием БАС (табл. 1).
Таблица 1. Клиническая и генетическая характеристика пациентов
№ | Возраст | Ген/ | Экзон/ | Генетический | Аминокислотная | Характер | Форма |
1 | 38/м | c9orf72/ 9p21.2 | 1 | rs143561967 | – | Спорадический | Шейно-грудная |
2 | 36/ж | c9orf72/ 9p21.2 | 1 | rs143561967 | – | Аутосомно-доминантный | Бульбарная |
3 | 44/м | c9orf72/ 9p21.2 | 1 | rs143561967 | – | Спорадический | Шейно-грудная |
4 | 33/ж | c9orf72/ 9p21.2 | 1 | rs143561967 | – | Спорадический | Бульбарная |
5 | 43/м | SOD1/ 21q22.11 | 3’UTR-область | rs2516661924 | – | Спорадический | Пояснично-крестцовая |
6 | 35/ж | SOD1/ 21q22.11 | 5 | rs1568811471 | NP_000445.1: p.Asn140Asp | Аутосомно-доминантный | Пояснично-крестцовая |
7 | 37/ж | SOD1/ 21q22.11 | 5 | rs1568811471 | NP_000445.1: p.Asn140Asp | Аутосомно-доминантный | Пояснично-крестцовая |
8 | 41/м | SOD1/ 21q22.11 | 4 | rs80265967 | NP_000445.1: p.Asp91Ala | Аутосомно-доминантный | Пояснично-крестцовая |
9 | 37/ж | SOD1/ 21q22.11 | 4 | rs80265967 | NP_000445.1: p.Asp91Ala | Спорадический | Пояснично-крестцовая |
10 | 41/ж | SOD1/ 21q22.11 | 4 | rs80265967 | NP_000445.1: p.Asp91Ala | Аутосомно-доминантный | Пояснично-крестцовая |
11 | 37/м | FIG4/ 6q21 | 5 | rs1455052760 | NP_055660.1: p.Val157Met | Аутосомно-доминантный/ | Шейно-грудная |
12 | 24/ж | SOD1/ 21q22.11 | 5 | de novo | NP_000445.1: p.Glu134Gly | Аутосомно-рецессивный | Пояснично-крестцовая |
13 | 5/м | UBQLN2/ Xp11.21 | 1 | rs764837088 | NP_038472.2: p.Thr134Ile | Спорадический | С когнитивными нарушениями |
14 | 20/м | FUS/ 16p11.2 | 14 | rs387906627 | NP_004951.1: p.Arg495Ter | Аутосомно-доминантный | Бульбарная |
15 | 18/м | FUS/ 16p11.2 | 14 | rs387906627 | NP_004951.1: p.Arg495Ter | Спорадический | Бульбарная |
При исследовании кодирующей последовательности гена SOD1 выявлено 7 (14,8%) мутаций, среди которых 6 — в кодирующей области гена и 1 — в 3’UTR-области. Кроме того, 5 (11%) случаев были представлены семейными формами SOD1-ассоциированного БАС, преимущественно с аутосомно-доминантным характером наследования, остальные классифицировались как спорадические (4%). Наиболее частыми мутациями в гене SOD1, характерными для рнБАС, являлись ранее описанные в других популяциях p.Asp91Ala и p.Asn140Asp.
При исследовании числа гексануклеотидных повторов (GGGGCC)n в гене C9orf72 в 4 (8,5%) случаях выявлена экспансия, число повторов во всех случаях превышало порог 50 копий. Большинство исследований определяет патогенный порог повторов > 35 [18, 19].
В случаях с юБАС, в связи с крайней редкостью этой формы, всем 4 пациентам было рекомендовано проведение исследования методами массового параллельного секвенирования. Результаты были предоставлены пациентами для проведения анализа взаимосвязи между генотипом и фенотипом, а также валидации выявленных вариантов. В 2 случаях юБАС была выявлена мутация p.Arg495Ter в гене FUS, у одного пациента заболевание имело наследственный характер, у другого — спорадический, мутация de novo, которая не была выявлена у родителей пробанда. Выявлены также варианты в генах SOD1 (p.Glu134Gly) — семейная форма и UBQLN2 (р.Thr134Ile) — мутация de novo, явившиеся причиной развития заболевания.
В структуре фенотипов рнБАС с выявленными мутациями преобладал пояснично-крестцовый дебют (47% случаев), свойственный SOD1-ассоциированным случаям, в 4 (27%) случаях наблюдался бульбарный дебют симптомов, характерный для мутаций в генах C9orf72 и FUS; у 3 (20%) пациентов — шейно-грудная форма заболевания, ассоциированная с мутациями в генах C9orf72 и FIG4. Крайне редкий фенотип юБАС с преобладанием признаков вовлечения верхнего мотонейрона и мультимодальными когнитивными нарушениями был ассоциирован с мутацией в гене UBQLN2.
Рис. 1. Распределение мутаций в каузальных генах БАС среди 47 пациентов с рнБАС, наблюдающихся в 6-м неврологическом отделении РЦНН.
Одним из пациентов с установленным диагнозом рнБАС был предоставлен результат полноэкзомного секвенирования с выявленной гетерозиготной мутацией p.Val157Met в гене FIG4 неопределённого клинического значения. При валидации выявленного варианта обнаружено, что у клинически здоровой матери пробанда мутация p.Val157Met находилась в гетерозиготном состоянии. Наглядная генетическая структура выявленных мутаций представлена на рис. 1.
Обсуждение
Настоящее исследование на данный момент представляет собой единственное подробное описание генетической структуры и фенотипических особенностей когорты пациентов с рнБАС в России. Нами показано, что преобладающей формой заболевания среди пациентов с рнБСА является спинальная (67% пациентов с выявленной мутацией), вовлекающая нижние — пояснично-крестцовая форма и/или верхние конечности — шейно-грудная форма, причём большинство случаев демонстрирует пояснично-крестцовый дебют симптомов. В то время как бульбарная форма встречалась в 27% случаев с подтверждённой мутацией в каузальных генах БАС. В крупных европейских популяционных исследованиях показано, что доля бульбарных форм увеличивается с возрастом дебюта симптомов, достигая 10–51% у мужчин и 6–72% у женщин [20, 21], а низкая частота бульбарного дебюта у пациентов с дебютом до 41 года (в среднем 16%) контрастирует с более высокой частотой у пожилых пациентов (в среднем 43% при дебюте после 70 лет) [7]. Наши данные согласуются с описанными исследованиями, подтверждая большую долю спинальных форм заболевания в структуре рнБАС.
Известно, что четыре ключевых каузальных гена объясняют около 48% случаев семейного и примерно 5% случаев спорадического БАС среди популяций европейского происхождения [11], эти гены включают C9orf72, SOD1, TARDBP и FUS. В настоящем исследовании выявлено, что 15% случаев рнБАС были ассоциированы с мутациями в гене SOD1, причём самыми частыми мутациями были ранее описанные для европейской популяции p.Asp91Ala и p.Asn140Asp, а доминировавшей в клинической картине формой была пояснично-крестцовая. Полученные данные согласуются с известными исследованиями [22], в которых сообщается о большей доле спинального дебюта симптомов, причём со слабости в нижних конечностях (пояснично-крестцовая форма), хотя чётко очерченный фенотип известен лишь для некоторых мутаций в гене SOD1, например, мутация D90A — одна из наиболее распространённых в Европе, отличается медленным темпом прогрессирования и пояснично-крестцовым дебютом симптомов.
Гексануклеотидная (GGGGCC)n экспансия в некодирующей области гена C9orf72 является наиболее частой причиной семейного БАС [19]. Согласно проведённым исследованиям [23], доля мутаций C9orf72, ответственных за развитие заболевания, варьирует от 7,84% до 41% у пациентов с положительным семейным анамнезом, а также составляет около 5% в спорадических случаях, в зависимости от состава исследуемой выборки. В нашем исследовании показано, что мутации в гене C9orf72 были каузальными в 8,7% случаев, кроме того, лишь один пациент имел отягощённый семейный анамнез, в остальных случаях заболевание имело спорадический характер. Основными формами заболевания, связанными с мутациями в гене C9orf72, были бульбарная и шейно-грудная. Данные нашего исследования согласуются с одним из больших когортных исследований по клинико-генетическим характеристикам C9orf72-ассоциированного БАС, где было показано, что первые симптомы заболевания часто затрагивают бульбарный уровень цереброспинальной оси, а средний возраст дебюта составляет 58 лет, что характеризует гексануклеотидную экспансию в гене C9orf72 как крайне редкую причину БАС с ранним началом [19].
В 2009 г. была впервые описана редкая аутосомно-доминантная форма БАС, ассоциированная с гетерозиготными патогенными вариантами в гене FIG4 у пациентов из Северной Америки [24]. FIG4 кодирует фосфоинозитид-5-фосфатазу, участвующую в регуляции фосфатидилинозитол-3,5-бисфосфата — внутриклеточного сигнального липида, играющего ключевую роль в транспорте эндосомальных везикул, а утрата его функции приводит к нейродегенеративному процессу в центральной нервной системе, включая мотонейроны спинного мозга, а также к периферической невропатии, что было продемонстрировано на животной модели [25]. На сегодняшний день выявлено как минимум 14 редких несинонимичных вариантов в гене FIG4, и вклад этих вариантов в патогенез БАС остаётся предметом обсуждения, поскольку в небольших когортах пациентов патогенные варианты FIG4 не обнаруживались, а у некоторых носителей таких вариантов отмечалась неполная пенетрантность (отсутствие клинических проявлений при наличии мутации) [26, 27]. Явление неполной пенетрантности, вероятно, в нашем случае является объяснением отсутствия клинических проявлений заболевания у матери пробанда, которая также является носителем гетерозиготной мутации p.Val157Met в гене FIG4. Клинический фенотип заболевания у пробанда представлен симптомами преимущественного вовлечения верхнего мотонейрона, что также является характерной чертой FIG4-ассоциированного БАС [28], и шейно-грудным дебютом. В связи с тем, что даже каузальные мутации могут проявлять неполную пенетрантность, изучается вклад факторов окружающей среды как модифицирующих риск развития заболевания. Среди потенциальных экзогенных факторов, ассоциированных с БАС, рассматриваются токсические (например, радиация, пестициды, органические растворители, β-метиламино-L-аланин, метилфенилтетрагидропиридин, тяжёлые металлы, вакцинация), инфекционные (например, ретровирусы, герпесвирусы), а также факторы окружающей среды и образа жизни (включая особенности диеты, низкое потребление полиненасыщенных жирных кислот, интенсивную физическую активность, занятия спортом, повторные черепно-мозговые травмы, профессиональное воздействие электромагнитных полей и др.) [1]. При наличии генетической предрасположенности эти факторы могут выступать в роли потенциальных триггеров развития рнБАС [1, 29].
Наиболее частой генетической основой, ассоциированной с юБАС, являются варианты мутаций в генах FUS, ALS2, SETX и SPG11 [29]. Аутосомно-рецессивный тип наследования чаще наблюдается в кровнородственных семьях и описан у пациентов с вариантами в генах ALS2, SPG11, SIGMAR1, ERLIN1, VRK1, GNE, DDHD1 и SYNE1, в то время как аутосомно-доминантный тип наследования и спорадические случаи с мутациями de novo чаще ассоциированы с вариантами в генах FUS [30], SETX, SOD1, SPTLC1 [31], SPTLC2, TRMT2B, BICD2 и TARDBP. Х-сцепленный тип наследования характерен для редких патогенных вариантов в гене UBQLN2 [32], хотя в исключительно редких случаях он описан и при мутациях в гене TRMT2B [33]. Патогенные варианты в генах FUS и SOD1 представляют собой наиболее распространённые моногенные формы семейного юБАС с глобальной распространённостью, несмотря на то что большинство случаев юБАС являются спорадическими и вызваны мутациями de novo [34].
Мутации в гене SOD1 до настоящего времени, по данным литературы, были ассоциированы с 3 случаями юБАС [35–37]. Они характеризуются дебютом заболевания в конце 2-го или начале 3-го десятилетия жизни, сопровождаются сочетанием симптомов поражения как верхнего, так и нижнего мотонейронов. Во всех случаях было быстрое прогрессирование заболевания, развитие дыхательной недостаточности; у 2 пациентов наступил летальный исход менее чем через 2 года от начала симптомов. Предполагается, что данные мутации возникли de novo, т. к. чёткой семейной отягощённости не выявлено. У пациентов с SOD1-ассоциированным юБАС не наблюдалось сенсорных или когнитивных нарушений. Электромиографическое исследование демонстрировало признаки активной денервации и хронических нейрогенных изменений, при этом параметры сенсорной проводимости оставались в пределах нормы. Нейропатологическое исследование у 1 пациента выявило выраженную дегенерацию передних рогов спинного мозга, тельца Буниной и глиоз в спинном и головном мозге [37]. В нейронах передних рогов обнаружены включения, иммунореактивные по убиквитину и белку SOD1. Важной особенностью мутаций в гене SOD1 при юБАС является то, что они локализуются вблизи участков, связывающих цинк [35, 37], либо в β-структурных доменах белка [36] и в большинстве случаев отличаются от мутаций, выявляемых при БАС во взрослом возрасте.
В описанном нами случае SOD1-ассоциированного юБАС дебют симптоматики отмечен в возрасте 24 лет. Клиническая картина была представлена преимущественным вовлечением нижнего мотонейрона и быстрым нарастанием неврологического дефицита, что за 6 мес прогрессирования привело к практически полной иммобилизации пациентки, а через 10 мес с момента появления первых симптомов — к летальному исходу от развившейся выраженной дыхательной недостаточности. В представленном случае заболевание развилось у пациентки с гомозиготным носительством варианта p.E134G, в то время как у матери пробанда (гетерозиготный носитель) признаков заболевания не было, что может свидетельствовать об аутосомно-рецессивном типе наследования. Данный клинический случай обращает на себя внимание тем, что чаще всего мутации в гене SOD1 характеризуются аутосомно-доминантным типом наследования и полной пенетрантностью [22], но в некоторых исследованиях было показано, что SOD1-ассоциированный БАС может иметь и рецессивный тип наследования [38], а также известно, что неполная пенетратность мутаций в гене SOD1 встречается крайне редко [39]. Вариант ранее был описан в одном из исследований [40] как причина спорадического БАС с пояснично-крестцовым дебютом в 34 года и медленным темпом прогрессирования.
UBQLN2 представляет собой транспортный белок, участвующий в функционировании убиквитин-протеасомной системы. Одним из наиболее активно исследуемых механизмов, лежащих в основе патогенеза, связанного с UBQLN2, является нарушение работы убиквитин-протеасомной системы, вызванное мутациями в данном белке. Вместе с тем хорошо задокументирована роль белка UBQLN2 в нарушении цитоплазматической локализации белка TDP-43 и его агрегации в виде нерастворимых включений, что характерно для БАС. В недавних исследованиях установлено, что мутации в гене UBQLN2, ассоциированные с БАС, приводят также к нарушениям аутофагии, активации нейровоспаления и патологическому формированию стресс-гранул [41]. Совокупность этих данных подчёркивает ключевую роль UBQLN2 в патогенезе БАС и лобно-височной деменции, в контексте аберрантного метаболизма токсичных белков и недостаточности механизмов их элиминации.
В одном из исследований, включавшем 5 семей с редкими случаями юБАС, мутации в гене UBQLN2 характеризовались Х-сцепленным доминантным характером наследования, а также проявлялись формами заболевания, сочетающимися с деменцией [32]. Возраст начала клинических проявлений при UBQLN2-ассоциированном БАС варьировал от 16 до 71 года. Средний возраст дебюта у мужчин составил 33,9 ± 14,0 года, у женщин — 47,3 ± 10,8 года. Продолжительность заболевания в среднем составляла около 4 десятилетий, что свидетельствует о его медленно прогрессирующем течении. Наиболее часто с мутациями в гене UBQLN2 ассоциируется лобно-височная деменция. Среди 40 пациентов с мутациями в гене UBQLN2 у 3 заболевание манифестировало до 24 лет: в одном случае были выявлены классические проявления БАС, в другом — сочетание БАС и лобно-височной деменции, а в третьем — совокупность признаков поражения верхнего мотонейрона и деменции. Патоморфологическое исследование спинного мозга 2 пациентов выявило дегенерацию нейронов передних рогов, атрофию кортикоспинальных трактов и выраженный астроцитоз.
Наш случай демонстрирует педиатрический дебют БАС в возрасте 5–6 лет с задержки психомоторного развития, появления дрожания рук (вероятно, в связи с мышечной слабостью) и судорог в икроножных мышцах, к которым в течение 10 лет постепенно начала присоединяться слабость в ногах. Темп течения заболевания в данном клиническом случае, безусловно, можно расценить как медленный, что соответствует данным литературы, а прогноз можно считать благоприятным, в том числе с учётом отсутствия дыхательных нарушений. Особенностью нашего наблюдения является сочетание мультимодальных когнитивных нарушений, вовлечения нижнего мотонейрона — клинически в виде лёгкого беспокойства языка и его краевых гипотрофий, крампи и спонтанных фасцикуляций в руках, ногах и мышцах живота, а также нейрофизиологически в виде длительно текущего (многолетнего), медленно прогрессирующего, генерализованного поражения периферических мотонейронов с резким преобладанием реиннервационного процесса над денервационным, верхнего мотонейрона в виде повышения глубоких сухожильных и периостальных рефлексов с ног и лёгкого повышения тонуса в ногах по спастическому типу.
Ген FUS считается одной из самых частых причин развития юБАС [34]. Однако FUS-ассоциированные случаи демонстрируют выраженную фенотипическую вариабельность — от классического взрослого дебюта до агрессивных форм с началом в детском возрасте. Как в ювенильной, так и в педиатрической популяции течение заболевания при мутациях в гене FUS, как правило, более злокачественное и быстро прогрессирующее. В педиатрической возрастной группе выявляется крайне ограниченное число генов, ассоциированных с классическим синдромом БАС, и сама нозологическая единица встречается редко, зачастую оставаясь недооценённой при дифференциальной диагностике заболеваний мотонейрона у детей. Тем не менее именно случаи, связанные с мутациями в гене FUS, оказываются непропорционально представленными в этой возрастной категории.
Причины того, почему один и тот же ген способен вызывать как агрессивную, раннюю (педиатрическую) форму БАС, так и классическую взрослую форму, остаются неясными. Ген FUS локализуется на 16-й хромосоме и кодирует белок, участвующий в ряде важнейших процессов, связанных с регуляцией функций ДНК и РНК. В литературе выдвинуты гипотезы, согласно которым вариабельность клинических фенотипов может быть связана с локализацией мутаций в пределах различных функциональных доменов гена FUS.
Анализ 38 опубликованных случаев FUS-ассоциированного юБАС показал, что большинство из них обусловлены de novo мутациями [42]. Мутации в гене FUS, ассоциированные с юБАС, отличаются от мутаций в гене FUS, свойственных БАС с более поздним началом, хотя и те, и другие часто локализуются в области C-концевого фрагмента белка [43]. Возраст начала заболевания обычно составляет 21 год. Клиническая картина FUS-ассоциированного юБАС включает признаки поражения как нижнего, так и верхнего мотонейрона: мышечную слабость, гипотрофии в сочетании со спастичностью и гиперрефлексией. FUS-ассоциированный юБАС характеризуется быстрым прогрессированием с летальным исходом вследствие дыхательной недостаточности в течение 1–2 лет от дебюта симптомов. Несмотря на то что бульбарный дебют обычно ассоциирован с более быстрым прогрессированием, в молодом возрасте не выявлено значимых различий в выживаемости между спинальной и бульбарной формами БАС [43]. В ряде случаев FUS-ассоциированного БАС описаны двигательные нарушения: миоклонические подёргивания [44], тремор, в ещё более редких случаях — глазодвигательные нарушения, представленные диплопией [45].
В 2 наших наблюдениях выявлена ранее описанная как патогенная мутация p.Arg495Ter в гене FUS, приводящая к преждевременному появлению терминирующего кодона, что вызывает усечение C-концевого фрагмента белка FUS. По данным литературы, этот нуклеотидный вариант ассоциирован с агрессивным фенотипом заболевания [46], однако молекулярные механизмы, лежащие в основе такой злокачественной клинической картины, в настоящее время остаются во многом невыясненными. Выявленная мутация в 1 клиническом наблюдении, по-видимому, была унаследована от отца, у которого симптомы нарушения бульбарных функций и внешнего дыхания дебютировали в возрасте 29 лет и неуклонно прогрессировали вплоть до летального исхода в 35 лет. В другом клиническом наблюдении выявленная мутация не была унаследована от родителей, а согласно проведённому «трио», является вариантом de novo, что также согласуется с данными литературы, т. к. большинство опубликованных случаев FUS-ассоциированного юБАС являются мутациями de novo [42].
Основным фенотипическим отличием наших наблюдений FUS-ассоциированного юБАС является то, что в случае наследственной формы заболевания дебют симптомов был представлен классическим прогрессирующим бульбарным параличом, к которому впоследствии присоединились слабость мышц лица и прогрессирующие нейрогенные дыхательные нарушения, в то время как при спорадической форме FUS-ассоциированного юБАС первым симптомом было появление асимметрии лица (лицевая диплегия), к которой впоследствии присоединились бульбарные нарушения.
Прогноз при БАС остаётся во многом неопределённым. Несмотря на то что у большинства пациентов течение заболевания соответствует классическому варианту БАС с продолжительностью жизни от начала симптомов до летального исхода в пределах 20–48 мес [47], более чем у 10% пациентов наблюдается течение с выживаемостью свыше 10 лет [48]. Данных о естественном течении различных генетических подтипов юБАС крайне мало, и наибольшую ценность представляют серии клинических наблюдений. В целом большинство ранних и ювенильных форм характеризуются длительным течением заболевания. Однако даже при относительно медленной прогрессии у пациентов наблюдаются выраженное снижение качества жизни, значительная утрата функциональной независимости, часто требующая нутритивной поддержки, гастростомии, а также постоянной респираторной поддержки и искусственной вентиляции лёгких [49]. В то же время начало заболевания в детском возрасте, бульбарный дебют, а также случаи юБАС с более сложными неврологическими проявлениями, как правило, имеют тяжёлое течение и неблагоприятный прогноз [29]. Быстро прогрессирующее клиническое течение особенно характерно для подтипов юБАС, ассоциированного с мутациями в генах FUS и SOD1 [29, 50].
Заключение
рнБАС представляет собой редкое нейродегенеративное заболевание, при котором сохраняется значительное количество нерешённых задач в области диагностики и лечения. Диагноз основывается преимущественно на клинической картине, нейрофизиологических исследованиях и молекулярно-генетическом анализе. При этом наличие моногенной причины не является обязательным для постановки окончательного диагноза. Ранняя идентификация как спорадических, так и семейных форм рнБАС и установление их молекулярно-генетических основ имеют решающее значение для своевременного проведения генетического консультирования и выявления потенциально поддающихся терапии этиологий. В настоящее время ведутся клинические испытания по ряду генетических причин, ассоциированных с развитием БАС. Препараты на основе антисмысловых олигонуклеотидов для лечения SOD1- и FUS-ассоциированного БАС на момент публикации статьи проходят III фазу клинических исследований и демонстрируют обнадеживающие результаты.
Этическое утверждение. Получено письменное информированное согласие пациентов на участие в исследовании, обработку и представление полученных данных. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом Российского центра неврологии и нейронаук (протокол № 2-5/23 от 15.02.2023).
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешних источников финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов: Шевчук Д.В. — создание концепции исследования, проведение исследования, анализ данных, написание текста; Абрамычева Н.Ю. — создание концепции исследования, проведение исследования; Проценко А.Р. — проведение исследования; Гришина Д.А., Макарова А.Г. — анализ данных; Захарова М.Н. — создание концепции исследования, руководство научно-исследовательской работой.
Ethics approval. Written informed consent was obtained from patients for participation in the study and for the processing and presentation of the data obtained. The study was approved by the Local Ethics Committee of the Russian Center of Neurology and Neurosciences (Protocol No. 2-5/23 dated 15 February 2023).
Source of funding. This study was not supported by any external sources of funding.
Conflict of interest. The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
Authors’ contribution. Shevchuk D.V. — creating a research concept, conducting research, analyzing data, writing a text; Abramycheva N.Yu. — creating a research concept, conducting research; Protsenko A.R. — conducting research; Grishina D.A., Makarova A.G. — analyzing data; Zakharova M.N. — creation of a research concept, management of research work.
Об авторах
Денис Владимирович Шевчук
Российский центр неврологии и нейронаук
Автор, ответственный за переписку.
Email: shevchuk.d.v@neurology.ru
ORCID iD: 0009-0002-1334-9730
врач-невролог 6-го неврологического отделения Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Наталья Юрьевна Абрамычева
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: shevchuk.d.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0001-9419-1159
канд. биол. наук, в. научный сотрудник, зав. молекулярно-генетической лабораторией 5-го неврологического отделения Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Арина Романовна Проценко
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: shevchuk.d.v@neurology.ru
ORCID iD: 0009-0000-5290-5045
младший научный сотрудник молекулярно-генетической лаборатории 5-го неврологического отделения
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Дарья Александровна Гришина
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: shevchuk.d.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0002-7924-3405
доктор медицинских наук, рук. Центра заболеваний периферической нервной системы
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Ангелина Геннадьевна Макарова
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: shevchuk.d.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0001-8862-654X
кандидат медицинских наук, врач-невролог 3-го неврологического отделения
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Мария Николаевна Захарова
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: shevchuk.d.v@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0002-1072-9968
доктор медицинских наук, проф., главный научный сотрудник, рук. 6-го неврологического отделения Института клинической и профилактической неврологии
Россия, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Список литературы
- van Es MA, Hardiman O, Chio A, et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet. 2017;390(10107):2084–2098. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31287-4
- Marin B, Logroscino G, Boumédiene F, et al. Clinical and demographic factors and outcome of amyotrophic lateral sclerosis in relation to population ancestral origin. Eur J Epidemiol. 2016;31(3):229–245. doi: 10.1007/S10654-015-0090-X
- Chia R, Chiò A, Traynor BJ. Novel genes associated with amyotrophic lateral sclerosis: diagnostic and clinical implications. Lancet Neurol. 2018;17(1):94–102. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30401-5
- Deng J, Wu W, Xie Z, et al. Novel and recurrent mutations in a cohort of Chinese patients with young-onset amyotrophic lateral sclerosis. Front Neurosci. 2019;13:1289. doi: 10.3389/fnins.2019.01289
- Lin J, Chen W, Huang P, et al. The distinct manifestation of young-onset amyotrophic lateral sclerosis in China. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2021;22(1-2):30–37. doi: 10.1080/21678421.2020.1797091
- Oliveira Santos M, Gromicho M, Pinto S, et al. Clinical characteristics in young-adult ALS — results from a Portuguese cohort study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2020;21(7-8):620–623. doi: 10.1080/21678421.2020.1790611
- Turner MR, Barnwell J, Al-Chalabi A, et al. Young-onset amyotrophic lateral sclerosis: historical and other observations. Brain. 2012;135 (Рt 9):2883–2891. doi: 10.1093/BRAIN/AWS144
- Sabatelli M, Madia F, Conte A, et al. Natural history of young-adult amyotrophic lateral sclerosis. Neurology. 2008;71(12):876–881. doi: 10.1212/01.WNL.0000312378.94737.45
- Kliest T, Van Eijk RPA, Al-Chalabi A, et al. Clinical trials in pediatric ALS: a TRICALS feasibility study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2022;23(7-8):481–488. doi: 10.1080/21678421.2021.2024856
- Kacem I, Sghaier I, Bougatef S, et al. Epidemiological and clinical features of amyotrophic lateral sclerosis in a Tunisian cohort. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2020;21(1-2):131–139. doi: 10.1080/21678421.2019.1704012
- Mathis S, Goizet C, Soulages A, et al. Genetics of amyotrophic lateral sclerosis: a review. J Neurol Sci. 2019;399:217–226. doi: 10.1016/J.JNS.2019.02.030
- de Souza PVS, de Rezende Pinto WBV, de Rezende Batistella GN, et al. Hereditary spastic paraplegia: clinical and genetic hallmarks. Cerebellum. 2017;16(2):525–551. doi: 10.1007/S12311-016-0803-Z
- Connolly O, Le Gall L, McCluskey G, et al. A systematic review of genotype-phenotype correlation across cohorts having causal mutations of different genes in ALS. J Pers Med. 2020;10(3):58. doi: 10.3390/JPM10030058
- Souza PVS, Pinto WBVR, Ricarte A, et al. Clinical and radiological profile of patients with spinal muscular atrophy type 4. Eur J Neurol. 2021;28(2):609–619. doi: 10.1111/ENE.14587
- Ludolph A, Drory V, Hardiman O, et al. A revision of the El Escorial criteria — 2015. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2015;16(5-6):291–292. doi: 10.3109/21678421.2015.1049183
- Turner MR, Group UMCS. Diagnosing ALS: the Gold Coast criteria and the role of EMG. Pract Neurol. 2022;22(3):176–178. doi: 10.1136/PRACTNEUROL-2021-003256
- Niven E, Newton J, Foley J, et al. Validation of the Edinburgh Cognitive and Behavioural Amyotrophic Lateral Sclerosis Screen (ECAS): a cognitive tool for motor disorders. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2015;16(3-4):172–179. doi: 10.3109/21678421.2015.1030430
- Van Mossevelde S, van der Zee J, Cruts M, et al. Relationship between C9orf72 repeat size and clinical phenotype. Curr Opin Genet Dev. 2017;44:117–124. doi: 10.1016/J.GDE.2017.02.008
- Wiesenfarth M, Gunther K, Muller K, et al. Clinical and genetic features of amyotrophic lateral sclerosis patients with C9orf72 mutations. Brain Commun. 2023;5(2):fcad087. doi: 10.1093/BRAINCOMMS/FCAD087
- Beghi E, Millul A, Micheli A, et al. Incidence of ALS in Lombardy, Italy. Neurology. 2007;68(2):141–145. doi: 10.1212/01.WNL.0000250339.14392.BB
- Chiò A, Calvo A, Moglia C, et al. Phenotypic heterogeneity of amyotrophic lateral sclerosis: a population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82(7):740–746. doi: 10.1136/JNNP.2010.235952
- Berdyński M, Miszta P, Safranow K, et al. SOD1 mutations associated with amyotrophic lateral sclerosis analysis of variant severity. Sci Rep. 2022;12(1):103. doi: 10.1038/S41598-021-03891-8
- Umoh ME, Fournier C, Li Y, et al. Comparative analysis of C9orf72 and sporadic disease in an ALS clinic population. Neurology. 2016;87(10):1024–1030. doi: 10.1212/WNL.0000000000003067
- Chow CY, Landers JE, Bergren SK, et al. Deleterious variants of FIG4, a phosphoinositide phosphatase, in patients with ALS. Am J Hum Genet. 2009;84(1):85–88. doi: 10.1016/J.AJHG.2008.12.010
- Chow CY, Zhang Y, Dowling JJ, et al. Mutation of FIG4 causes neurodegeneration in the pale tremor mouse and patients with CMT4J. Nature. 2007;448(7149):68–72. doi: 10.1038/NATURE05876
- Tsai CP, Soong BW, Lin KP, et al. FUS, TARDBP, and SOD1 mutations in a Taiwanese cohort with familial ALS. Neurobiol Aging. 2011;32(3):553.e13-21. doi: 10.1016/J.NEUROBIOLAGING.2010.04.009
- Verdiani S, Origone P, Geroldi A, et al. The FIG4 gene does not play a major role in causing ALS in Italian patients. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013;14(3):228–229. doi: 10.3109/21678421.2012.760605
- Yilihamu M, Liu X, Liu X, et al. Case report: a variant of the FIG4 gene with rapidly progressive amyotrophic lateral sclerosis. Front Neurol. 2022;13:984866. doi: 10.3389/FNEUR.2022.984866
- Lehky T, Grunseich C. Juvenile amyotrophic lateral sclerosis: a review. Genes (Basel). 2021;12(12):1935. doi: 10.3390/GENES12121935
- Conte A, Lattante S, Zollino M, et al. P525L FUS mutation is consistently associated with a severe form of juvenile amyotrophic lateral sclerosis. Neuromuscul Disord. 2012;22(1):73–75. doi: 10.1016/J.NMD.2011.08.003
- Johnson JO, Chia R, Miller DE, et al. Association of variants in the SPTLC1 gene with juvenile amyotrophic lateral sclerosis. JAMA Neurol. 2021;78(10):1236–1248. doi: 10.1001/JAMANEUROL.2021.2598
- Deng HX, Chen W, Hong ST, et al. Mutations in UBQLN2 cause dominant X-linked juvenile and adult-onset ALS and ALS/dementia. Nature. 2011;477(7363):211–215. doi: 10.1038/NATURE10353
- Liu Y, He X, Yuan Y, et al. Association of TRMT2B gene variants with juvenile amyotrophic lateral sclerosis. Front Med. 2024;18(1):68–80. doi: 10.1007/S11684-023-1005-Y
- Chen L. FUS mutation is probably the most common pathogenic gene for JALS, especially sporadic JALS. Rev Neurol (Paris). 2021;177(4):333–340. doi: 10.1016/J.NEUROL.2020.06.010
- Keckarević D, Stević Z, Keckarević-Marković M, et al. A novel P66S mutation in exon 3 of the SOD1 gene with early onset and rapid progression. Amyotroph Lateral Scler. 2012;13(2):237–240. doi: 10.3109/17482968.2011.627588
- Kawamata J, Shimohama S, Takano S, et al. Novel G16S (GGC-AGC) mutation in the SOD-1 gene in a patient with apparently sporadic young-onset amyotrophic lateral sclerosis. Hum Mutat. 1997;9(4):356–358. doi: 10.1002/(SICI)1098-1004(1997)9:4<356::AID-HUMU9>3.0.CO;2-3
- Alexander MD, Traynor BJ, Miller N, et al. “True” sporadic ALS associated with a novel SOD-1 mutation. Ann Neurol. 2002;52(5):680–683. doi: 10.1002/ANA.10369
- Al-Chalabi A, Andersen PM, Chioza B, et al. Recessive amyotrophic lateral sclerosis families with the D90A SOD1 mutation share a common founder: evidence for a linked protective factor. Hum Mol Genet. 1998;7(13):2045–2050. doi: 10.1093/HMG/7.13.2045
- Zinman L, Liu HN, Sato C, et al. A mechanism for low penetrance in an ALS family with a novel SOD1 deletion. Neurology. 2009;72(13):1153–1159. doi: 10.1212/01.WNL.0000345363.65799.35
- Абрамычева Н.Ю., Лысогорская Е.В., Шпилюкова Ю.С. и др. Молекулярная структура бокового амиотрофического склероза в российской популяции. Нервно-мышечные болезни. 2016;6(4):21–27. Abramycheva NYu, Lysogorskaya EV, Shpilyukova YuS, et al. Molecular structure of amyotrophic lateral sclerosis in Russian population. Neuromuscular Diseases. 2016;6(4):21–27. doi: 10.17650/2222-8721-2016-6-4-21-27
- Renaud L, Picher-Martel V, Codron P, et al. Key role of UBQLN2 in pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. Acta Neuropathol Commun. 2019;7(1):103. doi: 10.1186/S40478-019-0758-7/TABLES/2
- Picher-Martel V, Brunet F, Dupré N, et al. The Occurrence of FUS mutations in pediatric amyotrophic lateral sclerosis: a case report and review of the literature. J Child Neurol. 2020;35(8):556–562. doi: 10.1177/0883073820915099
- Naumann M, Peikert K, Günther R, et al. Phenotypes and malignancy risk of different FUS mutations in genetic amyotrophic lateral sclerosis. Ann Clin Transl Neurol. 2019;6(12):2384–2394. doi: 10.1002/ACN3.50930
- Dodd KC, Power R, Ealing J, et al. FUS-ALS presenting with myoclonic jerks in a 17-year-old man. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2019;20(3-4):278–280. doi: 10.1080/21678421.2019.1582665
- Leblond CS, Webber A, Gan-Or Z, et al. De novo FUS P525L mutation in Juvenile amyotrophic lateral sclerosis with dysphonia and diplopia. Neurol Genet. 2016;2(2):e63. doi: 10.1212/NXG.0000000000000063
- Nakaya T, Maragkakis M. Amyotrophic lateral sclerosis associated FUS mutation shortens mitochondria and induces neurotoxicity. Sci Rep. 2018;8(1):15575. doi: 10.1038/s41598-018-33964-0
- Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic lateral sclerosis. N Engl J Med. 2017;377(2):162–172. doi: 10.1056/NEJMRA1603471
- Chiò A, Logroscino G, Hardiman O, et al. Prognostic factors in ALS: a critical review. Amyotroph Lateral Scler. 2009;10(5-6):310–323. doi: 10.3109/17482960802566824
- Westeneng HJ, Debray TPA, Visser AE, et al. Prognosis for patients with amyotrophic lateral sclerosis: development and validation of a personalised prediction model. Lancet Neurol. 2018;17(5):423–433. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30089-9
- Zou ZY, Liu MS, Li XG, et al. Mutations in SOD1 and FUS caused juvenile-onset sporadic amyotrophic lateral sclerosis with aggressive progression. Ann Transl Med. 2015;3(15):221. doi: 10.3978/J.ISSN.2305-5839.2015.09.04