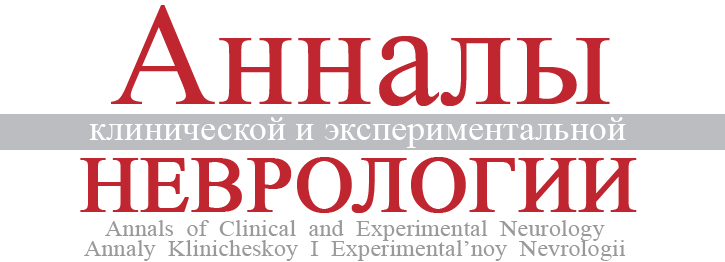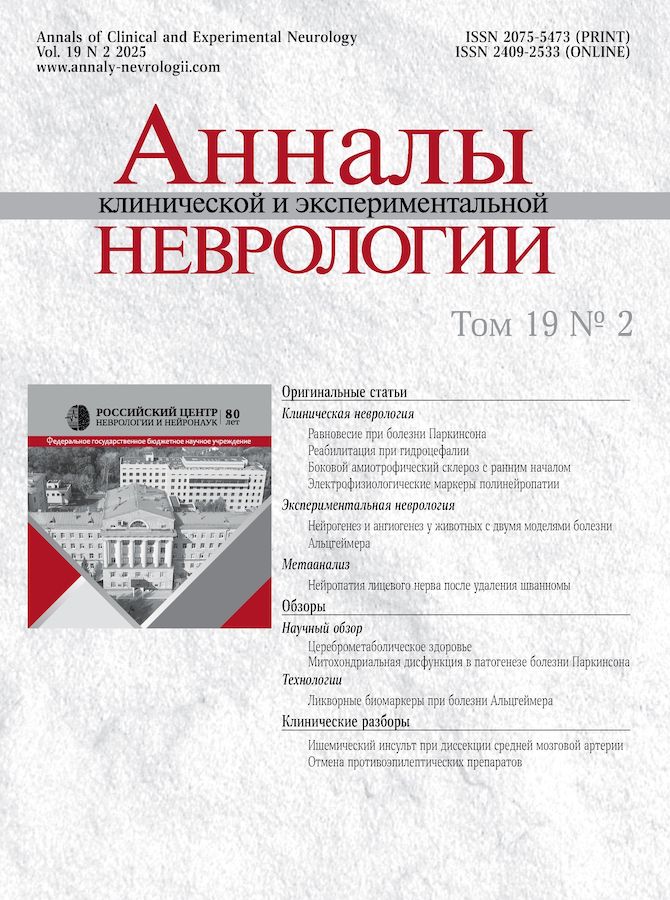Сравнительный анализ нейрогенеза и церебрального ангиогенеза в нейрогенной нише гиппокампа у животных с двумя моделями экспериментальной болезни Альцгеймера
- Авторы: Аверчук А.С.1, Кукла М.В.1, Розанова Н.А.1, Ставровская А.В.1, Салмина А.Б.1
-
Учреждения:
- Российский центр неврологии и нейронаук
- Выпуск: Том 19, № 2 (2025)
- Страницы: 41-51
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья получена: 05.11.2024
- Статья одобрена: 10.12.2024
- Статья опубликована: 26.06.2025
- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1227
- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1227
- EDN: https://elibrary.ru/IAUIYW
- ID: 1227
Цитировать
Аннотация
Введение. Механизмы развития болезни Альцгеймера (БА) изучают с использованием разнообразных моделей на животных. Понимание особенностей патогенеза повреждения мозга у животных с разными моделями нейродегенерации и выявление общих закономерностей, присущих всем релевантным моделям, важно для корректной интерпретации полученных данных, разработки новых моделей и способов профилактики и терапии.
Цель исследования — оценить изменения нейрогенеза и ремоделирования микрососудов в субгранулярной зоне (СГЗ) гиппокампа головного мозга мышей с двумя моделями БА.
Материалы и методы. Для исследования были использованы две модели БА in vivo: 1) животные с интрагиппокампальным введением фрагмента β-амилоидного белка Aβ25–35; 2) животные линии 5xFAD. Когнитивные функции оценивали с помощью теста условной реакции пассивного избегания. На 7-е и 28-е сутки после обучения выполняли оценку ветвления и плотности сосудистой сети в гиппокампе с помощью Evans Blue с последующим программным анализом скелетированных изображений, анализ пролиферативной активности нейрональных клеток, эндотелиальных клеток и их субпопуляционного состава — с помощью теста с BrdU и мультипараметрического иммуноокрашивания тонких срезов мозга.
Результаты. Животные после интрагиппокампального введения Aβ25–35 демонстрировали усиленный нейрогенез и неоангиогенез в течение 28 сут после обучения, в отличие от животных с 5xFAD, у которых пролиферация клеток нейрональной природы в СГЗ носила замедленный и менее выраженный характер на фоне транзиторного увеличения количества пролиферирующих клеток эндотелия. У животных с разными моделями БА изменения количества tip- и stalk-клеток в СГЗ гиппокампа были разнонаправленными, что свидетельствует о несовершенном неоангиогенезе, подтверждаемом снижением ветвления и плотности сосудистой сети в СГЗ животных с обеими моделями БА.
Заключение. Формирование когнитивного дефицита на фоне различных по механизмам развития опыт-индуцированного нейрогенеза и церебрального ангиогенеза в нейрогенной нише гиппокампа у животных с моделями БА, характерными для спорадических и семейных вариантов, демонстрирует необходимость в разработке принципиально разных подходов к патогенетической терапии непродуктивного ангиогенеза и аберрантной пластичности мозга при разных вариантах развития нейродегенерации альцгеймеровского типа.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Способность головного мозга реагировать на внутренние или внешние раздражители путём реорганизации своей структуры, функций и связей характеризуется его пластичностью [1]. Этот феномен играет ключевую роль в формировании и сохранении нейронных схем и когнитивных функций. В то время как нормальная нейропластичность важна для функционирования мозга, её нарушения являются основой для развития нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера (БА) характеризуется ускоренным старением мозга, аберрантной пластичностью, что ассоциировано с постепенной дегенерацией нейронов и формированием амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в головном мозге. Несмотря на огромные исследовательские усилия, патогенез БА по-прежнему не изучен, а несколько ключевых теорий возникновения этого заболевания — амилоидная, кальциевая и пр. — конкурируют друг с другом [2].
Изучение механизмов развития БА в последние несколько декад осуществляется с использованием разнообразных моделей на животных: с введением нейротоксических агентов (колхицин, скополамин, атропин, соли алюминия) или олигомеров β-амилоида в ткань мозга; на трансгенных животных, несущих мутации в 3 или 5 генах, кодирующих белки, связанные с развитием нейродегенерации альцгеймеровского типа (белок-предшественник амилоида, пресенилин, тау-белок), а также животных, имеющих индуцированные дисметаболические нарушения, характерные для БА (инсулинорезистентность, митохондриальная дисфункция) [3].
Каждая из этих моделей имеет свои достоинства и ограничения, что определяет разную степень их пригодности к проведению доклинических и трансляционных исследований, в том числе при разработке методов фармакотерапии [4]. Это ставит исследователей перед вопросом применимости той или иной модели для оценки ключевых механизмов нейродегенерации и сопоставимости полученных результатов [5].
Например, у мышей линии 5xFAD значительная гибель нейронов развивается в возрасте 9–12 мес, а аккумуляция β-амилоида в ткани мозга и нейровоспаление регистрируются уже в возрасте 1,5–2,0 мес [6], тогда как введение в ткань мозга (желудочки, гиппокамп) различных вариантов β-амилоида (1–40, 1–42, 25–35) приводит к достаточно быстрому (в течение 3 дней) развитию нейровоспаления, повреждению микрососудов и формированию когнитивного дефицита, что особенно ярко проявляется при введении β-амилоида старым животным [7].
Подавление процессов нейрогенеза в нейрогенных нишах у животных с triple model (3xTg) наблюдается на ранних этапах постнатального онтогенеза (1–2 мес после рождения) и до формирования когнитивной дисфункции [7], у животных линии 5xFAD, характеризующихся нарастающим распространением в ткани мозга (начиная с subiculum и далее в гиппокамп и кору) признаков дистрофии нейритов, глиоза и аккумуляции β-амилоида) [8], подавление нейрогенеза очевидно к 2 мес постнатального развития, а у некоторых трансгенных животных с другими моделями БА регистрируется парадоксальная интенсификация нейрогенеза на 2–3-м месяцах постнатального онтогенеза [9]. Как мы показали ранее, у животных с интрагиппокампальным введением β-амилоида уже на 9-е сутки регистрируется увеличение экспрессии Pax6 и Nestin в субгранулярной зоне гиппокампа [10], а последующее снижение эффективности нейрогенеза носит длительный характер [11] и сопровождается прогрессированием локального нейровоспаления [12].
В этом контексте изучение механизмов аберрантной пластичности при БА должно основываться на понимании особенностей реализации патогенетических механизмов повреждения мозга у животных с разными моделями нейродегенерации, но выявление общих закономерностей, присущих всем (или большинству) релевантным моделям, особенно важно для корректной интерпретации полученных данных.
Нейрогенные ниши головного мозга, в частности субгранулярная зона (СГЗ) гиппокампа, являются интересным и информативным объектом для изучения нейропластичности, в том числе при прогрессирующей нейродегенерации. Во-первых, изменения нейрогенеза в гиппокампе напрямую связаны с когнитивными функциями, например, за счёт механизмов регуляции количества энграм-клеток или регуляции баланса «возбуждение/торможение» в гиппокампе [13]. Во-вторых, изменения нейрогенеза в гиппокампе отчётливо регистрируются при обучении и запоминании [14]. В-третьих, именно гиппокамп является одной из наиболее аффектированных областей мозга при БА [15]. В-четвертых, долгосрочные механизмы пластичности, определяемые эффективностью нейрогенеза, должны подкрепляться в гиппокампе изменениями локальной микроциркуляции и ремоделированием микрососудистого русла, например, за счёт механизмов неоангиогенеза и регрессии микрососудов [16]. В частности, в СГЗ гиппокампа, в отличие от субвентрикулярной зоны (СВЗ) гиппокампа, ангиогенная активность a priori высока, причём группы пролиферирующих клеток эндотелия находятся в непосредственном контакте с нейральными стволовыми клетками и высоко чувствительны к действию регуляторных молекул локального микроокружения [16]. Таким образом, в дополнение к механизмам нейрогенеза, характеризующим долговременные механизмы опыт-индуцированной пластичности [17], оценка ремоделирования микрокапиллярного русла в этой нейрогенной нише может быть информативной для анализа пластического потенциала мозга в норме и при нейродегенерации.
Целью нашего исследования стала сравнительная оценка изменений нейрогенеза и ремоделирования микрососудов в СГЗ гиппокампа мышей с двумя экспериментальными моделями БА: интрагиппокампальное введение β-амилоида и трансгенные животные линии 5xFAD.
Материалы и методы
Дизайн исследований представлен на рис. 1.
Рис. 1. Общая схема дизайна экспериментов in vivo с использованием двух моделей БА.
Модель 1 — животные с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 (контроль — ложнооперированные животные с введением 0,9% раствора NaCl); модель 2 — животные линии 5xFAD (контроль — интактные мыши линии C57BL/6).
Нами были использованы две модели БА in vivo.
Первая модель — животные с интрагиппокампальным введением фрагмента β-амилоидного белка Aβ25–35. Мышам-самцам C57BL/6 в возрасте 6 мес и массой 30–35 г (n = 39) была проведена стереотаксическая операция. Для анестезии использовали Золетил-100 («Virbac Sante Animale») и Ксила («Interchemie Werken “de Adelaar” BV»). Стандартный раствор Золетила-100 (500 мг в 5 мл) с физиологическим раствором в соотношении 1 : 4 вводили внутримышечно из расчёта 1,5 мг активного вещества на 25 г веса мыши. Ксила также разводили физиологическим раствором в соотношении 1 : 2 и вводили внутримышечно из расчёта 0,6 мг на 25 г веса мыши. Животным, находящимся под наркозом, с 2 сторон просверливали отверстия в черепе с помощью манипулятора («Stoelting») в соответствии с координатами «Mouse Brain Atlas» (AP — 2.0; ML — 1.9; DV — 1.3). Затем в область СА1 гиппокампа вводили 2 мкл 1 мм раствора олигомеризованного Aβ25–35 («Sigma-Aldrich Co.») в 0,9% растворе NaCl. Раствор Aβ25–35 готовили в соответствии с инструкциями производителя: Aβ25 -35 растворяли в 1 мл 0,9% раствора NaCl и инкубировали при 37°С в течение 4 дней). Животным контрольной группы — ложнооперированным (ЛО; 6 мес; n = 34) — вводили 0,9% раствор NaCl в том же объёме по соответствующим координатам.
В качестве второй экспериментальной модели БА in vivo использовали 6-месячных лабораторных мышей-самцов линии 5xFAD, B6SLJ-Tg(APPSWFLON,PSEN1M146LL286V)6799Vas (n = 21). Контрольная группа — интактные мыши-самцы C57BL/6 (6 мес; n = 21).
Все эксперименты проводили в соответствии с принципами гуманного обращения с животными и Директивой ЕС 2010/63/EU об экспериментах на животных. Животных содержали в клетках (не более 6 особей в клетке) с неограниченным доступом к пище и воде, 12-часовым ежедневным освещением. Исследования выполнены в соответствии с разрешением Локального этического комитета Российского центра неврологии и нейронаук (протокол № 5-3/22 от 01.06.2022).
Тест «Условно-рефлекторное пассивное избегание» (УРПИ). Когнитивные нарушения оценивали с помощью теста УРПИ в соответствии со стандартным протоколом на 1-й день после действия неизбегаемого аверсивного стимула (электрический ток 0,2 мА, 3 с через металлическую решетку пола после входа в тёмный отсек), а также на 7-й и 28-й дни после тренировки. Учитывали время, которое потребовалось мыши, чтобы переместиться из освещённого отсека камеры в тёмный отсек.
Оценка пролиферации клеток нейрональной и эндотелиальной природы в нейрогенной нише гиппокампа. Животным внутрибрюшинно вводили раствор BrdU (50 мг/кг массы тела) через 1 ч после обучающего стимула — аверсивного раздражителя, затем выполняли по 1 инъекции BrdU каждые 24 ч в течение 2 дней [18].
Иммуноокрашивание. В разные временны́е точки (7-е и 28-е сутки после обучения в тесте УРПИ) по 8 животных из каждой изучаемой группы умерщвляли методом смещения шейных позвонков. Мозг животного фиксировали в 4% параформальдегиде («Wuhan Servicebio Co., Ltd»), а затем готовили криосрезы толщиной 10 мкм с использованием криотома «FS800A» («RWD»). Сагиттальные срезы предварительно промывали в фосфатно-солевом растворе («Росмедбио») в течение 10 мин, а затем в течение 60 мин в 0,1% растворе Triton X-100 («Calbiochem Biochemicals») с добавлением 5% бычьего сывороточного альбумина («BioFroxx») для блокирования неспецифического связывания и окрашивали антителами. Антитела были подобраны в соответствии с видовой специфичностью и применялись в соответствии с протоколами, рекомендованными производителем: первичные антитела — anti-BrdU (Host–Mouse, 1 : 100, A1482, «ABClonal»); первично-меченые кроличьи антитела — anti-NeuN (1 : 100, FNab05669, «FineTest»); anti-CXCR4 (1 : 250, AF5279-F555, «Affinity»); anti-DLL4 (1 : 250, DF13221-F250, «Affinity»); anti-VEGFR2 (1 : 250, AF6281-F488, «Affinity»); anti-CD31 (1 : 250, AF6191-F555, «Affinity»); anti-TIE1 (1 : 250, AF4582-F555, «Affinity»); anti-Ki-67 (1 : 250, AF0198-F350, «Affinity»); anti-Notch (1 : 250, AF5307-F488, «Affinity»); вторичные антитела — anti-Rabbit (1 : 100, AS011, «ABClonal»); anti-Mouse (1 : 500, ab150116, Abcam, Великобритания). Срезы были покрыты защитными стёклами с использованием монтажной среды с эффектом сохранения флуоресценции «Fluoroshield Mounting with DAPI» («Sigma Aldrich»).
Для оценки пролиферации клеток в СГЗ с использованием BrdU готовили сагиттальные срезы головного мозга толщиной 26 мкм и учитывали количество BrdU+NeuN+DAPI+- и BrdU+CD31+DAPI+-клеток. При таком способе оценки показывает популяцию потомков пролиферирующих NSCs/NPCs или клеток эндотелия соответственно, активированных на 1-е сутки эксперимента (обучение) [18].
Цифровые изображения были получены с помощью системы визуализации EVOS M7000 («Thermo Fisher Scientific») и обработаны в программе «ImageJ» с использованием плагина для подсчёта флуоресцентных меток на микрофотографиях. Уровень экспрессии этих маркеров характеризовали количеством окрашенных клеток, нормализованным на 100 DAPI+-клеток в СГЗ.
Оценка ветвления и плотности сосудистой сети в гиппокампе. Через 1 ч после УРПИ (10-е сутки эксперимента) в соответствии со стандартным протоколом мышам внутрисердечно вводили 2% раствор Evans Blue (6 мкл/г массы тела) [19]. Через 5 мин животное подвергалось эвтаназии, у него извлекали головной мозг, в тонких срезах которого осуществляли анализ ангиогенеза. Для этого использовали микрофотографии, полученные при микроскопии срезов в программе «ImageJ»: фотографии переводили в бинарное изображение, очищали от фона («Threshold»), проводили скелетизацию изображения («Skeletonize»); для количественной оценки скелетированных изображений применяли «Analyze skeleton» (метод «Shortest branch») и плагин «Vessel Analysis» (вариант «Vascular Density»). Результаты выражали в абсолютных значениях для оценки количества узлов ветвления сосудов в зоне интереса, а для характеристики плотности сосудистой сети — в виде отношения длины сосуда на единицу площади.
Статистический анализ. Для статистической обработки данных использовали программу «Statistica v. 13.3» («СтатСофт»). Заключение о нормальности распределения данных основано на критериях Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Результаты были обработаны с использованием U-критерия Манна–Уитни. Результаты считали значимыми при p < 0,05. Данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения.
Результаты
Механизмы пластичности мозга тесно сопряжены с такими процессами, как нейрогенез и церебральный ангиогенез, и характеризуются значимыми изменениями при прогрессирующей нейродегенерации [19]. Пластичность, связанная с развитием головного мозга или приобретённым опытом, а также адаптивная пластичность, свойственная повреждённому головному мозгу, вероятно, могут по-разному влиять на процессы ангиогенеза и нейрогенеза [20]. Для оценки параметров нейрогенеза и ангиогенеза при опыт-индуцированной пластичности в обеих моделях БА нами был применён аверсивный неизбегаемый раздражитель в качестве обучающего стимула. Мы обнаружили, что животные с обеими моделями демонстрируют схожую динамику в развитии когнитивной дисфункции к 28-му дню после 1-го сеанса обучения (рис. 2), что соответствует полученным ранее результатам с использованием модели, индуцированной интрагиппокампальным введением β-амилоида [21]. В частности, наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению времени перехода в тёмный отсек камеры в тесте УРПИ у мышей с введением Aβ25 -35 на 92 с и на 113 с у мышей 5xFAD по сравнению с контрольными группами (р = 0,0449).
Рис. 2. Результаты нейроповеденческого тестирования в тесте УРПИ ЛО-животных и животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 (А), интактных и трансгенных животных линии 5xFAD (В) на 7-й и 28-й дни после обучения.
Как мы предполагали ранее [21], развитие когнитивного дефицита к 28-м суткам после 1-й обучающей сессии может соответствовать изменению процессов гиппокампального нейрогенеза, так как полный цикл от рекрутинга нейральных стволовых клеток до формирования популяции молодых нейронов составляет у млекопитающих около 4 нед [22]. Поэтому далее мы оценили количество пролиферирующих клеток нейрональной природы, чьё вступление в митоз было инициировано во время 1-й обучающей сессии.
Мы обнаружили, что количество молодых BrdU+-нейронов у животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 на 7-е сутки после применения аверсивного раздражителя было повышено (на 52% больше, чем в контрольной группе; р = 0,0449) и ещё больше увеличилось к 28-му дню (рис. 3). В то же время количество BrDU+-клеток нейрональной природы у животных линии 5xFAD к 7-м суткам было существенно ниже, чем у животных обеих контрольных групп и животных с интрагиппокампальным введением β-амилоида и далее увеличивалось, но не достигало значений, характерных для животных с нейродегенерацией, индуцированной интрагиппокампальным введением β-амилоида (рис. 3). У трансгенных животных на 7-й день после когнитивного стимула признаки усиленного нейрогенеза в СГЗ (рис. 3) не были зафиксированы, а усиленная пролиферация клеток нейрональной природы наблюдалась только к 28-му дню (в 3,75 раза; р = 0,0450), возможно, из-за несоответствия между запросом на нейрогенез и неспособностью реализовать механизмы пластичности.
Рис. 3. Изменение количества BrdU+-нейронов (NeuN+) в СГЗ ЛО и животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 (А), интактных и трансгенных животных линии 5xFAD (В) на 7-й и 28-й дни после обучения.
Данные нормализованы на 100 DAPI+-клеток и представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения.
В целом, после обучения животные после интрагиппокампального введения Aβ25–35 демонстрировали усиленный нейрогенез, в отличие от животных 5xFAD, у которых пролиферация нейрональных клеток носила замедленный и менее выраженный характер, возможно, из-за длительного — начиная с периода эмбриогенеза — процесса нейродегенерации и истощения пула нейральных стволовых и нейрональных прогениторных клеток.
Когнитивный резерв зависит от адекватного нейроваскулярного сопряжения, состояния микроциркуляции в активных регионах головного мозга, а васкуляризация гиппокампа существенно модулирует когнитивную производительность [23, 24]. Поэтому далее мы проанализировали изменения локального ангиогенеза в нейрогенной нише головного мозга. Как и в случае с оценкой BrdU+-клеток нейрональной природы, проанализировали число клеток эндотелия, вступивших в митоз в результате действия обучающего (аверсивного неизбегаемого) стимула.
Мы обнаружили, что количество пролиферирующих BrdU+-эндотелиальных CD31+-клеток в СГЗ головного мозга у животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 изначально было увеличено в 4,4 раза относительно контроля (р = 0,0445) и на 28-й день было больше, чем у ЛО, на 95% (рис. 4), что соответствует динамике нейрогенных событий. У трансгенных животных линии 5xFAD ангиогенез в СГЗ усиливался транзиторно (количество эндотелиальных BrdU+-клеток увеличивалось почти в 3 раза на 7-й день после тренировки), но к 28-му дню, соответствующему проявлениям когнитивной дисфункции, мы наблюдали значительное, в 2 раза, снижение количества пролиферирующих эндотелиальных клеток (р = 0,0445; рис. 4).
Рис. 4. Изменение количества эндотелиальных BrdU+-клеток (CD31+) в СГЗ животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 и ЛО (А), интактных и трансгенных животных линии 5xFAD (В) на 7-й и 28-й дни после обучения.
Таким образом, у ЛО и животных с интрагиппокампальным введением β-амилоида в СГЗ после обучения происходит достоверное увеличение количества пролиферирующих клеток нейрональной и эндотелиальной природы, чьё вступление в митоз было инициировано в 1-й день обучения. У животных линии 5xFAD количество BrdU+-клеток нейрональной природы увеличивается к 28-м суткам, а число BrdU+-клеток эндотелия к этому периоду достоверно снижается, что свидетельствует о несоответствии «запроса» на опыт-индуцированный ангиогенез и нейрогенез при длительно развивающейся нейродегенерации альцгеймеровского типа.
Стимуляция ангиогенеза и ремоделирования микрососудистого дерева сопровождается изменением субпопуляционного состава клеток эндотелия с появлением фенотипически и метаболически отличающихся tip- и stalk-клеток, обеспечивающих, соответственно, миграцию и формирование стенки нового капилляра [25]. С целью изучения особенностей патологического ангиогенеза в двух моделях БА далее проанализировали наличие в СГЗ экспериментальных животных следующих типов эндотелиальных клеток: CXCR4/Dll4/VEGFR2 tip-клетки и Tie1/Notch/Ki-67 stalk-клетки, в соответствии с данными об экспрессионном профиле этих категорий клеток — участников неоангиогенеза [26].
У ЛО не происходило значимого изменения числа tip- и stalk-клеток эндотелия в СГЗ в динамике наблюдения после обучения, но в группе животных с интрагиппокампальным введением β-амилоида к 28-м суткам мы наблюдали достоверное увеличение количества tip-клеток (рис. 5). У интактных животных количество tip- и stalk-клеток эндотелия увеличивается к 28-м суткам, при этом профиль количества stalk-клеток может быть расценён как соответствующий изменению количества BrdU+CD31+-клеток (именно stalk-, но не tip-клетки, обладают способностью к пролиферации) [27]. У животных линии 5xFAD увеличения количества tip-клеток с 7-х до 28-х суток наблюдения не происходит, однако снижается число stalk-клеток и общее количество клеток эндотелия обоих вариантов активированного фенотипа достоверно ниже, чем в контроле (рис. 5).
Данные нормализованы на 100 DAPI+-клеток и представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения.
Рис. 5. Изменение количества CXCR4/DLL4/VEGFR2-иммунопозитивных (tip-) и TIE1/Ki-67/NOTCH-иммунопозитивных (stalk-) клеток эндотелия в СГЗ животных и животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 и ЛО (А, С), интактных и трансгенных животных линии 5xFAD (B, D) на 7-й и 28-й дни после обучения.
Данные нормализованы на 100 DAPI+-клеток и представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения.
Рис. 6. Сосудистая сеть в СГЗ гиппокампа на 28-й день после обучения.
A — сосудистая сеть СГЗ ЛО; B — сосудистая сеть СГЗ животного с интрагиппокампальным введением Aβ25–35. Масштаб — 65 мкм.
Таким образом, животные с разными моделями БА демонстрируют разнонаправленные изменения количества tip- и stalk-клеток в СГЗ гиппокампа, что в целом свидетельствует о несовершенном неоангиогенезе. Это подтверждается обнаруженным нами снижением ветвления и плотности сосудистой сети в головном мозге животных с обеими моделями нейродегенерации альцгеймерского типа по сравнению с интактными животными на 7-й и 28-й дни после обучения (рис. 6, 7).
Рис. 7. Ветвление и плотность сосудистой сети в СГЗ гиппокампа ЛО и животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 (А, С), интактных животных и трансгенных животных линии 5xFAD (B, D) на 7-й и 28-й дни после обучения.
Обсуждение
Мы проанализировали особенности реализации пролиферативной активности клеток нейрональной и эндотелиальной природы в СГЗ, а также характера неоангиогенеза и ремоделирования микрососудистого дерева в этой нейрогенной нише головного мозга животных с двумя моделями БА: модель с интрагиппокампальным введением β-амилоида (воспроизводящая спорадические случаи БА) и трансгенная модель — линия мышей 5xFAD, характеризующаяся наличием комплекса мутаций, ассоциированных с развитием семейных форм БА у людей [28].
Мы обнаружили, что формирование когнитивной дисфункции на фоне применения теста УРПИ как модели обучения животных у мышей линии 5xFAD соответствует тому же периоду, что был ранее продемонстрирован нами для мышей с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 [29]: у животных обеих экспериментальных групп когнитивный дефицит регистрируется к 28-м суткам после 1-й сессии обучения в тесте УРПИ, что соответствует циклу индуцированного нейрогенеза в СГЗ гиппокампа — 4 нед [22].
Однако у животных обеих контрольных групп применение выбранного протокола обучения не привело к значительным изменениям числа пролиферирующих клеток нейрональной природы в СГЗ, тогда как при экспериментальном моделировании нейродегенерации альцгеймеровского типа регистрировалась интенсификация пролиферации клеток, достигающая максимума к 28-м суткам. С одной стороны, это соответствует нашим и другим экспериментальным данным о том, что при БА может быть зарегистрировано не только подавление нейрогенеза в нейрогенных нишах, но и его стимуляция, что обычно сопряжено с формированием провоспалительного микроокружения и аккумуляцией олигомеров β-амилоида, в том числе у трансгенных животных, демонстрирующих разнонаправленные изменения в зависимости от возраста [10, 11, 30–32], и у людей с БА [33].
С другой стороны, из этих данных следует, что интенсивность пролиферативных событий в СГЗ животных линии 5xFAD a priori снижена по сравнению с животными, перенёсшими интрагиппокампальное введение β-амилоида. Это позволяет считать, что пул нейральных стволовых и нейрональных прогениторных клеток у животных с моделью семейной формы БА в значительной степени повреждён, что не даёт возможности реализовать эффективный рекрутинг этих клеток при опыт-индуцированной стимуляции нейрогенеза. Мы полагаем, что это может быть связано с наличием длительного предшествующего периода формирования аберрантного нейрогенеза, начиная с эмбрионального этапа развития животных с генетическими моделями БА [34].
Одной из причин отсутствия значимой интенсификации нейрогенеза при обучении животных линии 5xFAD могут быть нарушения локального сосудистого скаффолда, обеспечивающего поддержание пула нейральных стволовых и нейрональных прогениторных клеток и их мобилизацию, пролиферацию и дифференцировку в нейрогенных нишах [15]. В условиях повышенной потребности в нейрогенезе (например, при обучении и консолидации памяти) подавление церебрального ангиогенеза приводит к ухудшению обучения и памяти [35]. Действительно, мы зарегистрировали снижение пролиферативной активности клеток эндотелия и подавление фенотипической конверсии клеток в tip- и stalk-фенотип у животных линии 5xFAD.
Животные контрольных групп продемонстрировали существенную интенсификацию неоангиогенеза (увеличение числа BrdU+CD31+-клеток) к 7-м и 28-м суткам после 1-й обучающей сессии. Аналогичная, и даже более выраженная динамика числа BrdU+CD31+-клеток эндотелия была обнаружена у животных после интрагиппокампального введения β-амилоида. Однако трансгенные животные линии 5хFAD характеризовались первоначальным увеличением числа клеток эндотелия, вступивших в митоз после обучения, с последующим значительным снижением их количества в СГЗ, что мы связываем с интенсификацией клеточной гибели (апоптоза) и/или усиленной регрессией микрососудов при наличии длительно развивающейся нейродегенерации у трансгенных животных, в отличие от животных, демонстрирующих в большей степени признаки острого токсического действия β-амилоида после его введения в ткань головного мозга.
Действительно, животные с генетической моделью БА имеют все ключевые признаки длительно развивающейся и прогрессирующей церебральной амилоидной ангиопатии с повреждением капиллярного русла головного мозга, что соответствует патогенезу БА у людей [36], в том числе в контексте формирования аберрантных микрососудов с нарушенной целостностью гематоэнцефалического барьера [37].
Примечательно, что если у животных с интрагиппокампальным введением Aβ25–35 проангиогенная активность в СГЗ высока, но, вероятно, нарушен механизм латерального ингибирования (число tip-клеток выше, чем количество stalk-клеток, на протяжении всего периода наблюдения), то у трансгенных животных доминирует другой механизм нарушения ангиогенеза: пролиферативная активность клеток эндотелиальной природы быстро редуцируется (вероятно, вследствие апоптоза или стимуляции регрессии микрососудов), и это сопровождается отсутствием значимой конверсии клеток эндотелия в tip-фенотип.
Полученные новые данные в целом соответствуют ключевым изменениям, зарегистрированным нами ранее у животных с нейродегенерацией альцгеймеровского типа, индуцированной интрагиппокампальным введением β-амилоида: несбалансированная экспрессия LC3B, ZO1, VEGFR2, VEGFR3, CD146, ICAM2, Dll4, Tie2 в СВЗ [38], нарушение митохондриальной динамики и аутофагии клеток эндотелия в СГЗ и энторинальной коре [39], аберрантное созревание клеток эндотелия в СГЗ и СВЗ, проявляющееся изменением доли CLDN5+-клеток от общего числа CD31+-клеток [40], дизрегуляция числа tip-, stalk- и phalanx-клеток эндотелия в префронтальной коре головного мозга [41], повышение проницаемости микрососудов и нарушение их разветвлённости в CA1, CA2, CA3 зонах гиппокампа у животных линии 5xFAD [42]. Кроме того, у животных с интрагиппокампальным введением β-амилоида ранее обнаружили несбалансированный характер индуцированного нейрогенеза и ангиогенеза на пресимптоматической стадии развития патологии в СГЗ и СВЗ [10], разную динамику экспрессии Arg3.1/Arc в постмитотических юных нейронах СГЗ и СВЗ на фоне подавленной пролиферативной активности клеток в СГЗ и повышенной — в СВЗ [29].
Таким образом, в физиологических условиях обучение стимулирует пролиферативную активность клеток эндотелиальной природы в СГЗ гиппокампа, что, в отсутствие значимых изменений нейрогенеза, не ассоциировано с изменением фенотипа клеток эндотелия микрососудов СГЗ. У животных на фоне токсического действия олигомеров интрагиппокампально введённого Aβ25–35 регистрируется индукция нейрогенных и ангиогенных событий в СГЗ, но нарушен механизм латерального ингибирования конверсии stalk-клеток в tip-клетки, в результате чего микроархитектура формирующейся сети капилляров гиппокампа нарушается. У животных с моделью генетически обусловленной БА «запрос» на усиленный неоангиогенез на фоне интенсифицированного нейрогенеза после обучения не реализуется в полной мере, что сопровождается отсутствием значимых субпопуляционных изменений клеток эндотелия и приводит к развитию аберрантной микрососудистой сети в гиппокампе.
Заключение
Феномен непродуктивного ангиогенеза и гиперваскуляризации, активно изучаемый в последние годы в контексте патогенеза БА [43, 44], имеет принципиально разные механизмы в СГЗ животных с двумя различными моделями нейродегенерации альцгеймеровского типа. Вне зависимости от доминирующего механизма нарушения пластичности, у животных с обеими моделями БА к 28-м суткам после когнитивной «нагрузки» (обучение в тесте УРПИ) регистрируется развитие когнитивного дефицита. Выявленные особенности реализации механизмов аберрантного нейрогенеза и ангиогенеза в гиппокампе должны учитываться при разработке новых терапевтических стратегий при спорадических и семейных формах БА.
Этическое утверждение. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом Российского центра неврологии и нейронаук (протокол № 5-3/22 от 01.06.2022).
Источник финансирования. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-15-00126, https://rscf.ru/project/22-15-00126/
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов: Аверчук А.С. — создание концепции исследования, анализ данных, проведение исследования, написание и редактирование рукописи; Кукла М.В., Розанова Н.А. — создание концепции исследования, анализ данных, проведение исследования; Ставровская А.В. — анализ данных, проведение исследования; Салмина А.Б. — создание концепции исследования, анализ данных, разработка методологии, руководство научно-исследовательской работой, получение финансирования, редактирование и утверждение окончательного варианта статьи.
Ethics approval. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee of the Russian Center of Neurology and Neurosciences (Protocol No. 5-3/22, 1 June 2022).
Source of funding. The research was supported by the Russian Science Foundation (Grant No. 22-25-00126, https://rscf.ru/project/22-15-00126/).
Conflict of interest. The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
Author contribution: Averchuk A.S. — conceptualization, data analysis, investigation, writing — original draft, writing — review and editing; Kukla M.V., Rozanova N.A. — conceptualization, data analysis, investigation; Stavrovskaya A.V. — data analysis, investigation, methodology; Salmina A.B. — conceptualization, methodology, supervision, data analysis, acquiring the funding, writing and editing.
Об авторах
Антон Сергеевич Аверчук
Российский центр неврологии и нейронаук
Автор, ответственный за переписку.
Email: antonaverchuk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1284-6711
канд. биол. наук, доцент, с. н. с. лаб. нейробиологии и тканевой инженерии Института мозга
Россия, 105064, Москва, пер. Обуха, д. 5, стр. 2Мария Владимировна Кукла
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: antonaverchuk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0700-4912
лаборант-исследователь лаб. нейробиологии и тканевой инженерии Института мозга
Россия, 105064, Москва, пер. Обуха, д. 5, стр. 2Наталья Александровна Розанова
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: antonaverchuk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9619-4679
лаборант-исследователь, аспирант лаб. нейробиологии и тканевой инженерии Института мозга
Россия, 105064, Москва, пер. Обуха, д. 5, стр. 2Алла Вадимовна Ставровская
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: antonaverchuk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-8689-0934
канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной патологии нервной системы и нейрофармакологии Института мозга
Россия, 105064, Москва, пер. Обуха, д. 5, стр. 2Алла Борисовна Салмина
Российский центр неврологии и нейронаук
Email: antonaverchuk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4012-6348
доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник, зав. лаб. нейробиологии и тканевой инженерии Института мозга
Россия, 105064, Москва, пер. Обуха, д. 5, стр. 2Список литературы
- Cramer SC, Sur M, Dobkin BH, et al. Harnessing neuroplasticity for clinical applications. Brain. 2011;134(Pt 6):1591–1609. doi: 10.1093/brain/awr039
- Popugaeva E, Pchitskaya E, Bezprozvanny I. Dysregulation of neuronal calcium homeostasis in Alzheimer’s disease — a therapeutic opportunity? Biochem Biophys Res Commun. 2017;483(4):998–1004. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.09.053
- Akhtar A, Gupta SM, Dwivedi S, et al. Preclinical models for Alzheimer’s disease: past, present, and future approaches. ACS Omega. 2022;7(51):47504–47517. doi: 10.1021/acsomega.2c05609
- Yokoyama M, Kobayashi H, Tatsumi L, et al. Mouse models of Alzheimer’s disease. Front Mol Neurosci. 2022;15:912995. doi: 10.3389/fnmol.2022.912995
- Горина Я.В., Власова О.Л., Большакова А.В. и др. Болезнь Альцгеймера: поиск лучших экспериментальных моделей для расшифровки клеточно-молекулярных механизмов развития заболевания. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2023;109(1):18–33. Gorina YаV, Vlasova OL, Bolshakova AV, et al. Alzheimer’s disease: a search for the best experimental models for the decoding of the cellular and molecular mechanisms of the development of the disease. Russian Physiological Journal named after I.M. Sechenov. 2023;109(1):18–33. doi: 10.31857/S0869813923010065
- Jankowsky JL, Zheng H. Practical considerations for choosing a mouse model of Alzheimer’s disease. Mol Neurodegener. 2017;12(1):89. doi: 10.1186/s13024-017-0231-7
- Guzmán CB, Chaffey ET, Palpagama HT, et al. The Interplay between beta-amyloid 1-42 (Aβ1-42)-induced hippocampal inflammatory response, p-tau, vascular pathology, and their synergistic contributions to neuronal death and behavioral deficits. Front Mol Neurosci. 2020;13:522073. doi: 10.3389/fnmol.2020.552073
- Forner S, Kawauchi S, Balderrama-Gutierrez G, et al. Systematic phenotyping and characterization of the 5xFAD mouse model of Alzheimer’s disease. Sci Data. 2021;8(1):270. doi: 10.1038/s41597-021-01054-y
- Babcock KR, Page JS, Fallon JR, et al. Adult hippocampal neurogenesis in aging and Alzheimer’s disease. Stem Cell Reports. 2021;16(4):681–693. doi: 10.1016/j.stemcr.2021.01.019
- Аверчук А.С., Рязанова М.В., Розанова Н.А. и др. Нейрогенез в нейрогенных нишах головного мозга при экспериментальной болезни Альцгеймера на досимптоматической стадии развития нейродегенерации. Цитология. 2023;65(4):339–347. Averchuk AS, Ryazanova MV, Rozanova NA, et al. Neurogenesis in brain neurogenic niches in experimental Alzheimer’s disease at the presymptomatic stage of neurodegeneration. Tsytologiya. 2023;65(4):339–347. doi: 10.31857/S004137712304003X
- Salmin VV, Komleva YK, Kuvacheva NV, et al. Differential roles of environmental enrichment in Alzheimer’s type of neurodegeneration and physiological aging. Front Aging Neurosci. 2017;9:245. doi: 10.3389/fnagi.2017.00245
- Komleva YK, Lopatina OL, Gorina YV, et al. Expression of nlrp3 inflammasomes in neurogenic niche contributes to the effect of spatial learning in physiological conditions but not in Alzheimer’s type neurodegeneration. Cell Mol Neurobiol. 2022;42(5):1355–1371. doi: 10.1007/s10571-020-01021-y
- Hollands C, Tobin MK, Hsu M, et al. Depletion of adult neurogenesis exacerbates cognitive deficits in Alzheimer’s disease by compromising hippocampal inhibition. Mol Neurodegener. 2017;12(1):64. doi: 10.1186/s13024-017-0207-7
- Pan YW, Storm DR, Xia Z. Role of adult neurogenesis in hippocampus-dependent memory, contextual fear extinction and remote contextual memory: new insights from ERK5 MAP kinase. Neurobiol Learn Mem. 2013;105:81–92. doi: 10.1016/j.nlm.2013.07.011
- Pozhilenkova EA, Lopatina OL, Komleva YK, et al. Blood-brain barrier-supported neurogenesis in healthy and diseased brain. Rev Neurosci. 2017;28(4):397–415. doi: 10.1515/revneuro-2016-0071
- Karakatsani A, Álvarez-Vergara MI, Ruiz de Almodóvar C. The vasculature of neurogenic niches: properties and function. Cells Dev. 2023;174:203841. doi: 10.1016/j.cdev.2023.203841
- Gonçalves JT, Schafer ST, Gage FH. Adult neurogenesis in the hippocampus: from stem cells to behavior. Cell. 2016;167(4):897–914. doi: 10.1016/j.cell.2016.10.021.021
- Fu S, Jiang W, Gao X, et al. Aberrant adult neurogenesis in the subventricular zone-rostral migratory stream-olfactory bulb system following subchronic manganese exposure. Toxicol Sci. 2016;150(2):347–368. doi: 10.1093/toxsci/kfw007
- Zeng A, Wang SR, He YX, et al. Progress in understanding of the stalk and tip cells formation involvement in angiogenesis mechanisms. Tissue Cell. 2021;73:101626. doi: 10.1016/j.tice.2021.101626
- Kania BF, Wrońska-Fortuna D, Zięba D. Introduction to neural plasticity mechanism. Journal of Behavioral and Brain Science. 2017;7(2):41–49. doi: 10.4236/jbbs.2017.72005
- Аверчук А.С., Рязанова М.В., Баранич Т.И. и др. Нейротоксическое действие бета-амилоида сопровождается изменением митохондриальной динамики и аутофагии нейронов и клеток церебрального эндотелия в экспериментальной модели болезни Альцгеймера. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2023;175(3):315–320. doi: 10.47056/0365-9615-2023-175-3-291-297. Averchuk AS, Ryazanova MV, Baranich TI, et al. The neurotoxic effect of β-amyloid is accompanied with changes in the mitochondrial dynamics and autophagy in neurons and brain endothelial cells in the experimental model of Alzheimer’s disease. Bull Exp Biol Med. 2023;175(3):315–320. doi: 10.1007/s10517-023-05859-2
- Lucassen PJ, Meerlo P, Naylor AS, et al. Regulation of adult neurogenesis by stress, sleep disruption, exercise and inflammation: implications for depression and antidepressant action. Eur Neuropsychopharmacol. 2020;20(1):1–17. doi: 10.1016/j.euroneuro.2009.08.003
- Salmina AB, Gorina YV, Komleva YK, et al. Early life stress and metabolic plasticity of brain cells: impact on neurogenesis and angiogenesis. Biomedicines. 2021;9(9):1092. doi: 10.3390/biomedicines9091092
- Wiesmann M, de Leeuw F-E. Vascular reserve in brain resilience: pipes or perfusion? Brain. 2020; 143(2):390–392. doi: 10.1093/brain/awz408
- Malinovskaya NA, Komleva YK, Salmin VV, et al. endothelial progenitor cells physiology and metabolic plasticity in brain angiogenesis and blood-brain barrier modeling. Front Physiol. 2016;7:599. doi: 10.3389/fphys.2016.00599
- Naito H, Iba T, Takakura N. Mechanisms of new blood-vessel formation and proliferative heterogeneity of endothelial cells. Int Immunol. 2020;32(5):295–305. doi: 10.1093/intimm/dxaa008
- Chen W, Xia P, Wang H, et al. The endothelial tip-stalk cell selection and shuffling during angiogenesis. J Cell Commun Signal. 2019;13(3):291–301. doi: 10.1007/s12079-019-00511-z
- Иптышев А.М., Горина Я.В., Лопатина О.Л. и др. Экспериментальные модели болезни Альцгеймера: преимущества и недостатки. Сибирское медицинское обозрение. 2016;(4):5–21. Iptyshev AM, Gorina YaV, Lopatina OL, et al. Experimental models of Alzheimer’s disease: advantages and disadvantages. Siberian Medical Review. 2016;(4):5–21.
- Рязанова М.В., Аверчук А.С., Ставровская А.В. и др. Особенности экспрессии Arc/Arg3.1 в ткани головного мозга при обучении животных с экспериментальной болезнью Альцгеймера. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2023;17(3):49–56. Ryazanova MV, Averchuk AS, Stavrovskaya AV, et al. Arc/Arg3.1 expression in the brain tissues during the learning process in Alzheimer’s disease animal models. Annals of Clinical and Experimental Neurology. 2023;17(3):49–56. doi: 10.54101/ACEN.2023.3.6
- Rodríguez JJ, Verkhratsky A. Neurogenesis in Alzheimer’s disease. J Anat. 2011;219(1):78–89. doi: 10.1111/j.1469-7580.2011.01343.x
- Salta E, Lazarov O, Fitzsimons CP, et al. Adult hippocampal neurogenesis in Alzheimer’s disease: a roadmap to clinical relevance. Cell Stem Cell. 2023;30(2):120–136. doi: 10.1016/j.stem.2023.01.002
- Ermini FV, Grathwohl S, Radde R, et al. Neurogenesis and alterations of neural stem cells in mouse models of cerebral amyloidosis. Am J Pathol. 2008:172(6):1520–1528. doi: 10.2353/ajpath.2008.060520
- Jin K, Peel AL, Mao XO, et al. Increased hippocampal neurogenesis in Alzheimer’s disease. Proc Natl Acad Sci USA. 2004;101(1):343–347. doi: 10.1073/pnas.2634794100
- Liu Y, Bilen M, McNicoll MM, et al. Early postnatal defects in neurogenesis in the 3xTg mouse model of Alzheimer’s disease. Cell Death Dis. 2023;14(2):138. doi: 10.1038/s41419-023-05650-1
- Kerr AL, Steuer EL, Pochtarev V, et al. Angiogenesis but not neurogenesis is critical for normal learning and memory acquisition. Neuroscience. 2010;171(1):214–226. doi: 10.1016/j.neuroscience.2010.08.008
- Hecht M, Krämer LM, von Arnim CAF, et al. Capillary cerebral amyloid angiopathy in Alzheimer’s disease: association with allocortical/hippocampal microinfarcts and cognitive decline. Acta Neuropathol. 2018;135(5):681–694. doi: 10.1007/s00401-018-1834-y
- Carrano A, Hoozemans JJ, van der Vies SM, et al. Neuroinflammation and blood-brain barrier changes in capillary amyloid angiopathy. Neurodegener Dis. 2012;10(1-4):329–331. doi: 10.1159/000334916
- Аверчук А.С., Рязанова М.В., Ставровская А.В. и др. Оценка ангиогенеза и ремоделирования микрососудов в субвентрикулярной зоне головного мозга мышей при экспериментальной болезни Альцгеймера. Казанский медицинский журнал. 2024;105(2):231–239. Averchuk AS, Ryazanova MV, Stavrovskaya AV, et al. Evaluation of angiogenesis and microvascular remodeling in the subventricular zone of the brain of mice with experimental Alzheimer’s disease. Kazan Medical Journal. 2024;105(2):231–239. doi: 10.17816/KMJ501749
- Averchuk AS, Ryazanova MV, Baranich TI, et al. The neurotoxic effect of β-amyloid is accompanied by changes in the mitochondrial dynamics and autophagy in neurons and brain endothelial cells in the experimental model of Alzheimer’s disease. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2023;175(3):315–320. doi: 10.1007/s10517-023-05859-2
- Кукла М.В., Аверчук А.С., Ставровская А.В. и др. Изменение экспрессии VEGFR1 и VEGFR2 и зрелости клеток эндотелия у экспериментальных животных с моделью болезни Альцгеймера. Бюллетень сибирской медицины. 2024;23(4):47–54. Kukla M.V., Averchuk A.S., Stavrovskaya A.V. et al. Changes in VEGFR1 and VEGFR2 expression and endothelial cell maturity in laboratory animals with a model of Alzheimer’s disease. Bulletin of Siberian Medicine. 2024;23(4):47–54. doi: 10.20538/1682-0363-2024-4-47-54
- Баранич Т.И., Аверчук А.С., Кукла М.В. и др. Субпопуляционные изменения клеток эндотелия сосудов коры головного мозга при экспериментальной болезни Альцгеймера. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2024;178(9):365–370. Baranich TI, Averchuk AS, Kukla MV, et al. Subpopulation alterations in endothelial cells of cerebral cortex vessels in the experimental model of Alzheimer’s disease. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2024;178(9):365–370. doi: 10.47056/0365-9615-2024-178-9-365-370
- Горина Я.В., Осипова Е.Д., Моргун А.В. и др. Аберрантный ангиогенез в ткани головного мозга при экспериментальной болезни Альцгеймера. Бюллетень сибирской медицины. 2020;19(4):46–52. Gorina YaV, Komleva YuK, Osipova ED, et al. Aberrant angiogenesis in brain tissue in experimental Alzheimer’s disease. Bulletin of Siberian Medicine. 2020;19(4):46–52. doi: 10.20538/1682-0363-2020-4-46-52
- Biron KE, Dickstein DL, Gopaul R, et al. Amyloid triggers extensive cerebral angiogenesis causing blood brain barrier permeability and hypervascularity in Alzheimer’s disease. PLoS One. 2011;6(8):e23789. doi: 10.1371/journal.pone.0023789
- Georgieva I, Tchekalarova J, Iliev D, et al. Endothelial senescence and its impact on angiogenesis in Alzheimer’s disease. Int J Mol Sci. 2023;24(14):11344. doi: 10.3390/ijms241411344