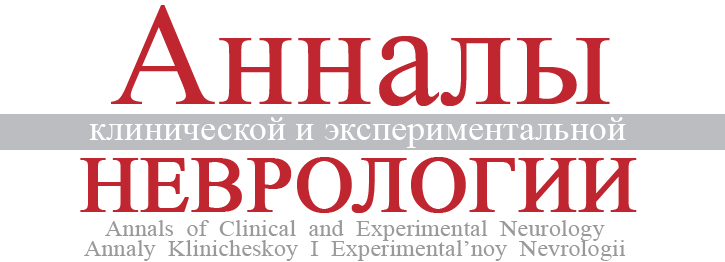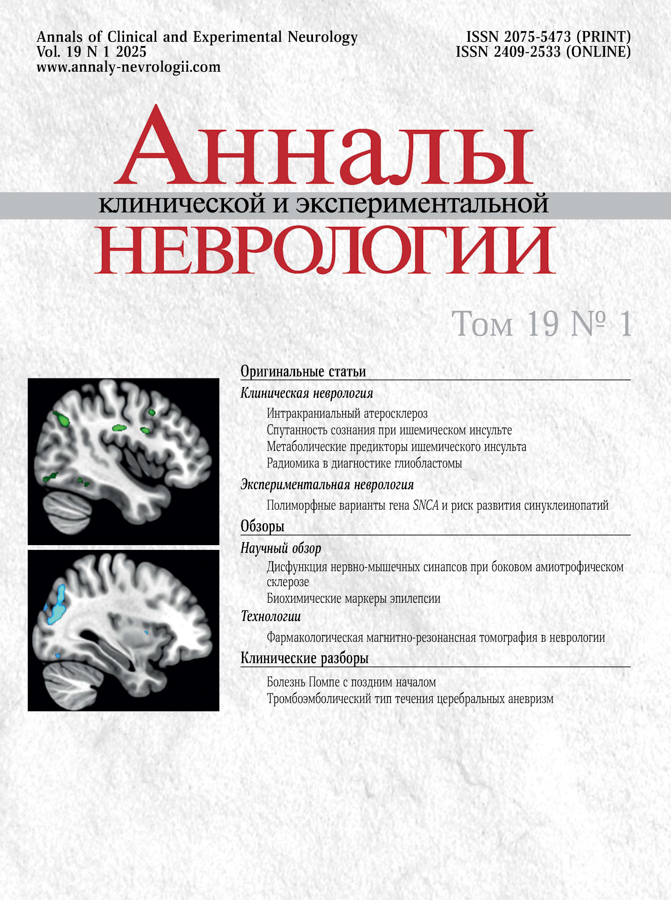Болезнь Помпе с поздним началом у пациентки с кровоизлиянием в мозжечок
- Авторы: Голдобин В.В.1, Клочева Е.Г.1, Вставская Т.Г.1, Юлдашев Х.Ф.1, Мунасипова А.Д.1
-
Учреждения:
- Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
- Выпуск: Том 19, № 1 (2025)
- Страницы: 77-84
- Раздел: Клинический разбор
- Статья получена: 26.12.2024
- Статья одобрена: 24.01.2025
- Статья опубликована: 03.04.2025
- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1257
- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1257
- ID: 1257
Цитировать
Аннотация
Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) — редкое аутосомно-рецессивное мультисистемное заболевание, для которого характерно отложение гликогена в скелетных мышцах и внутренних органах. Поздний дебют заболевания характеризуется медленным прогрессированием с поражением проксимальной мускулатуры, явлениями дыхательной недостаточности и менее выраженным, чем при инфантильной форме, поражением внутренних органов.
В статье представлено клиническое наблюдение пациентки 61 года, проходившей стационарное лечение. У неё на протяжении более 20 лет наблюдалась прогрессирующая мышечная слабость, выявлялся отягощённый наследственный анамнез, однако поводом для дообследования и лечения стало развитие кровоизлияния в левую гемисферу мозжечка. Приведены данные лабораторно-инструментальных методов обследования, обсуждены особенности клинических проявлений.
Полный текст
Введение
Болезнь Помпе (гликогеноз II типа; БП) — относится к редким аутосомно-рецессивным заболеваниям, характеризующимся накоплением гликогена в лизосомах разных тканей. В основе данного заболевания лежит мутация в гене GAA (OMIM #606800), локализованном на длинном плече 17-й хромосомы (17q25.2-25.3) и кодирующем кислую α-1,4-глюкозидазу — фермент, участвующий в расщеплении гликогена в лизосомах клеток [1, 2]. БП является мультисистемным заболеванием. Несмотря на преобладание клинических проявлений поражения скелетных мышц, нарушение обмена гликогена отмечается также в мышце сердца, печени, гладких мышцах и других органах и тканях [2, 3].
Клиническая картина БП зависит от возраста манифестации заболевания — более ранний дебют предрасполагает к более тяжёлому течению болезни. Биохимическим объяснением данного обстоятельства является сохраняющаяся остаточная активность кислой α-1,4-глюкозидазы у пациентов с поздним дебютом [4, 5].
Выделяют младенческую (инфантильную) форму и форму с поздним началом. Инфантильная форма протекает тяжелее в связи с крайне низкой (< 1%) активностью α-1,4-глюкозидазы. Симптомы заболевания развиваются при рождении или в течение первых месяцев жизни. Указанная форма характеризуется выраженной гипотонией (синдром «вялого ребёнка»), быстро прогрессирующей миопатией с нарушением функции дыхательной мускулатуры, гипертрофической кардиомиопатией, гепатомегалией и сопряжена с высоким риском летального исхода [6, 7]. Некоторые исследователи выделяют также неклассическую форму с дебютом в детском возрасте. В данной группе пациентов клиническая картина представлена задержкой моторного развития, миопатическим (с преимущественным поражением проксимальных групп мышц) и диарейным синдромами, дыхательной недостаточностью вследствие слабости и атрофии дыхательной мускулатуры, повышением в крови уровня креатинфосфокиназы (КФК), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) [7].
При поздней манифестации БП (старше 1 года) заболевание чаще развивается во взрослом возрасте. Отмечаются прогрессирующая слабость в туловищной мускулатуре и проксимальных мышцах с преимущественным поражением мышц нижних конечностей, появляется и прогрессирует дыхательная недостаточность, связанная с поражением диафрагмы, реже наблюдается кардиомиопатия. В клинической картине могут наблюдаться поражение бульбарных мышц, проявляющееся слабостью языка с дизартрией и дисфагией, апноэ во сне, нарушения сердечного ритма и функции желудочно-кишечного тракта, поражение нижних мочевыводящих путей и сфинктеров тазовых органов [5, 8–10]. Для позднего дебюта БП характерно медленно прогрессирующее течение заболевания. Тяжесть состояния пациентов определяется степенью поражения скелетных мышц и внутренних органов.
Изменения лабораторных показателей обычно представлены значительным повышением уровня КФК, лактатдегидрогеназы, АЛТ, АСТ. Проведение электронейромиографического исследования позволяет подтвердить миопатию. Выполнение биопсии мышцы не всегда способствует установлению диагноза, поскольку во взятом фрагменте характерные изменения мышечной ткани могут отсутствовать [1, 11, 12].
При подозрении на болезнь золотым стандартом является определение активности кислой α-1,4-глюкозидазы в сухих пятнах крови с помощью тандемной масс-спектрометрии и в случае её снижения выполнение молекулярно-генетического исследования методом прямого секвенирования гена GAA, которое позволяет выявить различные мутации [1, 6, 13].
Клиническое наблюдение
Пациентка А., 61 год, проходила плановое стационарное лечение в неврологическом отделении СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
При поступлении пациентка предъявляла жалобы на шаткость и неустойчивость при ходьбе, слабость скелетной мускулатуры, преимущественно в проксимальных отделах конечностей и мышцах спины, трудности при подъёме с кровати и вставании со стула (использует миопатические приёмы), боль в скелетных мышцах при движении, снижение звучности голоса.
Считает себя больной с возраста 20–30 лет, когда впервые заметила слабость в мышцах спины, сложности в поддержании вертикального положения. В дальнейшем наблюдалось медленное прогрессирование заболевания в виде нарушения ходьбы, поражения проксимальных групп мышц ног и рук. За медицинской помощью вследствие указанных жалоб не обращалась.
Уточнены данные наследственного анамнеза, схема родословной представлена на рис. 1. У брата пациентки (умер) с 25 лет наблюдалась прогрессирующая мышечная слабость, потребовавшая респираторной поддержки (искусственная вентиляция лёгких). У племянника (на данный момент ему 30 лет) в течение 2–3 лет отмечается медленное прогрессирование слабости скелетной мускулатуры; у сына племянника в раннем детском возрасте имела место прогрессирующая мышечная слабость с вовлечением дыхательной мускулатуры, потребовавшая искусственной вентиляции лёгких и послужившая причиной смерти в возрасте 4 лет.
Рис. 1. Родословная пациентки А.
15.03.2024 вечером пациентка отметила ухудшение общего самочувствия, остро развившееся головокружение, ощущение «щелчка» внутри головы с последующей потерей сознания и однократной рвотой. Была экстренно госпитализирована в региональный сосудистый центр, выполнено дообследование, выставлен диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по геморрагическому типу с образованием внутримозговой гематомы в левой гемисфере мозжечка. В условиях стационара получала нейропротективную, сосудистую терапию. В стабильном состоянии была выписана на амбулаторный этап лечения.
В апреле 2024 г. в плановом порядке пациентка госпитализирована в неврологическое отделение № 1 СЗГМУ им. И.И. Мечникова с диагнозом: «Последствия перенесённого ОНМК по геморрагическому типу с образованием внутримозговой гематомы в левой гемисфере мозжечка от 15.03.2024 с выраженной динамической атаксией, ранний восстановительный период». За время госпитализации получала антиагрегантную, гиполипидемическую, гипотензивную, нейропротективную терапию, лечебную физкультуру, физиотерапию, проводились тренинги с использованием биологической обратной связи. На фоне лечения отмечалась положительная динамика в виде значительного уменьшения явлений динамической атаксии. В связи с выявлением миопатического синдрома наследственного характера, нарушений ходьбы, не характерных для перенесённой острой цереброваскулярной патологии, было рекомендовано дообследование для исключения БП с поздним дебютом: определение активности α-1,4-глюкозидазы методом сухих пятен и молекулярно-генетическое исследование. Обращало внимание отсутствие значительно повышенного уровня КФК и других цитолитических ферментов по данным представленной медицинской документации.
05.11.2024 повторно госпитализирована в неврологическое отделение № 1 СЗГМУ им. И.И. Мечникова. При поступлении состояние относительно удовлетворительное. Сознание ясное, контактна. В общесоматическом статусе обращает на себя внимание S-образный сколиоз нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем не выявлено. Число дыхательных движений — 16 в минуту, SpO2 — 94%.
Обоняние не нарушено. Поля зрения ориентировочным методом не ограничены. Глазные щели D=S. Движения глазных яблок в полном объёме, диплопии, болезненности нет. Зрачки OD=OS, фотореакции (прямая и содружественная) живые. Реакция на конвергенцию и аккомодацию снижена с двух сторон. Отмечается установочный горизонтальный мелкоразмашистый нистагм в крайних отведениях. Чувствительность лица не нарушена. Лицо асимметрично за счёт сглаженности правой носогубной складки. Надбровный рефлекс D=S, средней живости. Кохлеарный, вестибулярный аппараты не нарушены. Дисфагии, дизартрии, дисфонии нет. Язык по средней линии. Мягкое нёбо напрягается симметрично, язычок расположен по средней линии. Рефлексы орального автоматизма отсутствуют. Походка изменена по миопатическому типу, опирается на окружающие предметы. При вставании со стула использует миопатические приёмы У. Говерса. Результаты исследования силы в основных группах скелетных мышц в баллах (по 5-балльной шкале MRC) приведены в табл. 1, выявлен умеренный парез мышц плечевого и тазового пояса.
Таблица 1. Показатели исследования мышечной силы пациентки А.
Движение | Справа | Слева |
Сгибание шеи вперед | 4 | 4 |
Сгибание шеи кзади | 4 | 4 |
Поднятие рук до горизонтального уровня | 3 | 3 |
Поднятие рук выше горизонтального уровня | 2 | 2 |
Ротация плеча кнаружи | 3 | 3 |
Ротация плеча кнутри | 3 | 3 |
Сгибание в локтевом суставе | 4 | 4 |
Разгибание в локтевом суставе | 4 | 4 |
Супинация предплечья | 4 | 4 |
Пронация предплечья | 4 | 4 |
Сгибание кисти | 4 | 4 |
Разгибание кисти | 4 | 4 |
Сгибание пальцев кисти | 5 | 5 |
Разгибание пальцев кисти | 5 | 5 |
Отведение пальцев кисти | 5 | 5 |
Приведение пальцев кисти | 5 | 5 |
Сгибание в тазобедренном суставе | 3 | 3 |
Разгибание в тазобедренном суставе | 3–4 | 3–4 |
Приведение бедра | 4 | 4 |
Отведение бедра | 4 | 4 |
Ротация бедра кнаружи | 4 | 4 |
Ротация бедра кнутри | 4 | 4 |
Сгибание в коленном суставе | 4 | 4 |
Разгибание в коленном суставе | 4 | 4 |
Тыльное сгибание стопы | 4–5 | 4–5 |
Подошвенное сгибание стопы | 5 | 5 |
Отведение стопы | 5 | 5 |
Приведение стопы | 5 | 5 |
Разгибание пальцев стопы | 5 | 5 |
Сгибание пальцев стопы | 5 | 5 |
Объём активных движений ограничен при подъёме рук выше горизонтального уровня за счёт мышечной слабости; объём пассивных движений не ограничен. Мышечный тонус диффузно снижен. Выявлена гипотрофия мышц плечевого и тазового пояса, формирующиеся «крыловидные» лопатки (рис. 2). Фасцикуляций и фибрилляций не наблюдалось. Глубокие рефлексы: с рук — равные, средней живости, с ног — равномерно снижены. Из патологических рефлексов выявляются верхний и нижний рефлексы Г.И. Россолимо слева.
Рис. 2. Атрофия мышц плечевого пояса пациентки А., формирующиеся «крыловидные» лопатки.
Пальценосовую, пальцемолоточковую пробы выполняет удовлетворительно с двух сторон, пяточно-коленную — с атаксией с двух сторон, более выраженной слева. В позе Ромберга наблюдается шаткость без чёткой латерализации, асинергию Бабинского достоверно оценить невозможно за счёт слабости мышц спины. Дисгиперметрии, дисдиадохокинезии нет, проба Стюарта–Холмса отрицательная. Предъявляет нарушения поверхностной чувствительности в виде гипестезии в левой руке по мозаичному типу. Глубокая чувствительность не нарушена. Симптомов натяжения корешков нет.
Афатических, апрактических, агнозических расстройств нет. Оценка по краткой шкале оценки психического статуса — 30 баллов, Монреальской шкале когнитивных функций — 28, батарее лобной дисфункции — 18.
Менингеальных симптомов нет. Функции тазовых органов не нарушены.
Выполнена оценка по госпитальной шкале тревоги и депрессии — уровень тревоги составил 2 балла, депрессии — 11 баллов. Пациентка консультирована психотерапевтом, выявленный балл субшкалы депрессии связан с хроническим медленно прогрессирующим течением заболевания.
Пациентке была проведена оценка форсированной жизненной ёмкости лёгких (фЖЕЛ) в положении сидя — показатель составил 37% от нормативного значения в соответствии с полом, ростом и возрастом, а также в положении лежа — 29% от референтного.
Результат теста 6-минутной ходьбы составил 318 м.
При повторной оценке лабораторных показателей миолиза выявлено незначительное увеличение уровня лактатдегидрогеназы — 235 ЕД/л (референтный интервал — 79–221), при этом уровень КФК составил 93 ЕД/л и сохранялся в пределах референтного интервала 26–174 ЕД/л.
Пациентке выполнено исследование уровня мозгового натрийуретического пептида, уровень которого составил 118,6 пг/мл, что ниже референтных значений (300–900 пг/мл для лиц 50–75 лет).
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов брюшной полости патологических изменений печени не выявлено, определён полип желчного пузыря. Отмечается снижение амплитуды движения правого купола диафрагмы до 7 мм, левого — до 10 мм (референтный интервал 10–20 мм).
Выполнено УЗИ диафрагмы с использованием датчиков с частотой 5–12 МГц в B- и М-режимах в положении стоя, полулежа и лежа на спине с оценкой толщины и экскурсии диафрагмы. Проводилось не менее 3 измерений каждого параметра с расчётом средней величины.
В табл. 2 и 3 представлены числовые характеристики УЗИ диафрагмы. Все исследуемые показатели были ниже референтного интервала.
Таблица 2. Толщина диафрагмы (мм) у пациентки А. по данным УЗИ
Момент исследования | Положение | Показатель | |||
справа | слева | ||||
результат | референсные значения | результат | референсные значения | ||
В конце выдоха | На спине | 1,1 | 1,7–2,2 | 1,1 | 1,7–2,2 |
Полулежа | 1,2 | 1,1 | |||
Стоя | 1,4 | 1,4 | |||
В конце спокойного вдоха | На спине | 1,4 | 1,9–2,7 | 1,4 | 2,0–2,8 |
Полулежа | 1,4 | 1,5 | |||
Стоя | 1,5 | 1,6 | |||
В конце глубокого вдоха | На спине | 2,1 | 2,6–3,5 | 2,1 | 2,8–3,9 |
Полулежа | 2,1 | 2,2 | |||
Стоя | 2,7 | 2,7 | |||
Таблица 3. Амплитуда движения диафрагмы (мм) у пациентки А. по данным УЗИ
Показатель | Положение | Результаты | Референсные значения |
Обычное дыхание | Стоя | 7,1 | 11,1–16,9 |
Лежа | 6,5 | ||
Глубокое дыхание | Стоя | 27,6 | 39,3–63,6 |
Лежа | 26,5 |
При триплексном исследовании брахиоцефальных артерий определены дилатация и изгибы хода брахиоцефального ствола, подключичных артерий, S-образные извитости хода общих сонных артерий, извитости хода внутренних сонных артерий в средних и дистальных отделах, позвоночных артерий в VI сегменте без признаков значимого стенозирования. По нижней стенке правой подключичной артерии визуализируется пролонгированная гетероэхогенная атеросклеротическая бляшка с гиперэхогенными включениями и бугристым контуром, стенозирующая просвет до 44%, признаков подключично-позвоночного обкрадывания не выявлено. Нельзя исключить гипоплазию левой позвоночной артерии.
Представлены результаты ранее выполненных рекомендованных дообследований. Исследование активности α-1,4-глюкозидазы методом сухих пятен выявило низкое значение — 1,3 мкмоль/л/ч (референтное значение > 2,32 мкмоль/л/ч); при молекулярно-генетическом исследовании в GAA установлен патогенный нуклеотидный вариант chr17:80112604G>A в гетерозиготном состоянии и вероятно патогенный нуклеотидный вариант chr17:80112993C>G в гетерозиготном состоянии
Пациентке было выполнено магнитно-резонансное томографическое исследование (МРТ) мягких тканей правого и левого бедра. Получены данные о симметричной жировой дистрофии мышц заднего компартмента бедра (полуперепончатая, полусухожильная, двуглавая мышцы) и больших приводящих мышц бедра без признаков отёка, поражения жировой клетчатки, фасциальных футляров и сосудисто-нервных пучков (рис. 3).
Рис. 3. Результаты МРТ мягких тканей бёдер пациентки А. (режим Т1-ВИ, фронтальный и аксиальный срезы).
Определяется выраженная симметричная жировая дегенерация задней группы мышц бедра (чёрная стрелка) и умеренно выраженная жировая дегенерация больших приводящих мышц бедра (белая стрелка).
На основании клинического, лабораторно-инструментального, молекулярно-генетического обследований был выставлен диагноз: Гликогеноз 2-го типа (БП) с поздним началом, миопатия проксимальных отделов конечностей и туловища с умеренно выраженными гипотрофиями, умеренным нарушением дыхательной функции, прогрессирующее течение.
Пациентка получала ранее назначенную антиагрегантную, гипотензивную и нейропротективную терапию. Дальнейшая тактика ведения пациентки включает начало заместительной ферментной терапии.
Обсуждение
Своевременная диагностика позднего дебюта БП в подавляющем большинстве случаев затруднена. При первичном обращении к неврологу по поводу «типичного» течения БП с поздним дебютом на этапе сбора жалоб, анамнеза и оценки неврологического статуса проводится дифференциальный диагноз с рядом миодистрофий, полимиозитом, спинальной амиотрофией, миастеническим синдромом. Однако в связи с медленным прогрессированием мышечной слабости и атрофий пациенты адаптируются, вследствие чего на первое место могут выходить клинические проявления поражения других органов, по поводу которых пациенты обращаются к различным специалистам: пульмонологам, ревматологам, ортопедам, гастроэнтерологам и врачам других специальностей [2, 12, 14].
Несвоевременная постановка диагноза, в свою очередь, затрудняет ведение пациентов в связи с задержкой начала патогенетической терапии.
В приведённом нами клиническом наблюдении пациентка А. в течение почти 30 лет отмечала у себя прогрессирование мышечной слабости и атрофий, однако поводом для обращения к неврологам стало развитие паренхиматозного кровоизлияния в левое полушарие мозжечка. По данным литературы, ОНМК могут быть редким осложнением БП. Патогенез развития ОНМК в данной группе пациентов обусловлен аномальным накоплением лизосомального гликогена в гладкомышечных клетках артериол и артерий головного мозга, вследствие чего нарушаются синтез и построение внеклеточного матрикса, снижаются эластичность и целостность стенки сосуда. При этом более уязвимыми оказываются артерии вертебрально-базилярного бассейна из-за меньшей выраженности эластичных волокон в их стенке по сравнению с артериями каротидного бассейна. Указанные изменения приводят к развитию дилатационной артериопатии, долихоэктазии базилярной артерии и формированию микроаневризм. В результате увеличиваются риски развития паренхиматозного кровоизлияния в вещество головного мозга (как у пациентки А.), субарахноидального кровоизлияния и микрокровоизлияний, а также инфаркта мозга и лейкоэнцефалопатии. Кроме того, фактором, предрасполагающим к вазодилатации, у пациентов с БП может быть повышение парциального давления СО2 при прогрессировании дыхательной недостаточности [15]. В приведённом нами случае также отмечались множественные извитости брахиоцефальных артерий по данным дуплексного сканирования, что подтверждает данные литературы. В то же время перенесённое пациенткой паренхиматозное кровоизлияние в левую гемисферу мозжечка сопровождалось отчётливой положительной динамикой очаговых симптомов на фоне проводимого лечения.
В период госпитализации в неврологическое отделение, являющееся основной базой кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова, было обращено внимание на клинические проявления длительно текущего у пациентки нервно-мышечного заболевания. При направленном сборе анамнеза был выявлен наследственный характер заболевания, клинико-лабораторное дообследование позволило исключить ненаследственные варианты (воспалительные, токсические, эндокринные, опухольиндуцированные) прогрессирующего поражения мышц.
Анализ схемы родословной позволил заподозрить наследственную природу заболевания, однако тип передачи заболевания не был характерным для БП, поскольку складывается впечатление об аутосомно-доминантном наследовании. При этом наличие именно БП, передающейся аутосомно-рецессивно, у умерших родственников (родного брата пациентки, сына племянника) не было подтверждено. Подобный псевдодоминантный вариант наследования возможен лишь в случае носительства мутации жёнами брата и племянника пациентки. С учётом низкой частоты гетерозиготного носительства мутаций в гене GAA вероятность подобного совпадения крайне низка. Для аутосомно-рецессивного наследования характерны случаи заболевания у родственников обоего пола в разных поколениях. Таким образом, полученные при сборе наследственного анамнеза данные не были характерными для БП.
Следует также отметить, что в приведённом наблюдении диагностику затрудняло отсутствие характерных лабораторных показателей миолиза при повторных биохимических исследованиях крови, в то время как в большинстве клинических случаев, описанных в литературе, выявлялась гиперкреатинфосфокиназемия [9, 16, 17]. Значения ферментемии в пределах референтного интервала могут быть связаны с длительным медленно прогрессирующим течением заболевания у пациентки (более 20 лет) с выраженным хроническим поражением мышечной ткани [18].
В представленном случае верифицировать диагноз позволило исследование уровня активности α-1,4-глюкозидазы в сухих пятнах крови методом тандемной масс-спектрометрии с последующим молекулярно-генетическим исследованием. У пациентки в аллелях гена GAA были выявлены компаунд-гетерозиготные мутации (патогенный нуклеотидный вариант chr17:80112604G>A и вероятно патогенный нуклеотидный вариант chr17:80112993C>G), что также может быть объяснением позднего развития заболевания со значениями ферментемии в пределах референсных. В настоящее время вопросам корреляций генотипа и фенотипа у пациентов с БП придаётся большое значение, поскольку генетические и эпигенетические механизмы клинического полиморфизма заболеваний нельзя считать окончательно изученными.
Важным аспектом обследования пациентов с нервно-мышечной патологией мы считаем оценку функции дыхательных мышц. Самым простым и наиболее распространённым в клинической практике является исследование фЖЕЛ в вертикальном и горизонтальном положениях, позволяющее выявить парез диафрагмы. В приведённом клиническом наблюдении отмечалось снижение фЖЕЛ до 37% от референсного значения в вертикальном положении и до 29% — в горизонтальном. В литературе имеются данные о связи уровня фЖЕЛ с заболеваемостью респираторной патологией и летальностью от неё [11, 12, 15]. В представленном наблюдении была применена методика УЗИ диафрагмы, которая позволила выявить снижение значений толщины и экскурсии диафрагмы ниже референтных. В доступной отечественной литературе нам не встретилось случаев проведения УЗИ диафрагмы у пациентов с БП, несмотря на простоту и информативность данного исследования. В зарубежных исследованиях применение УЗИ диафрагмы представлено единичными наблюдениями [19].
При МРТ мышц бёдер у обследуемой пациентки обращала внимание значительно более выраженная жировая дегенерация задних мышц бедра по сравнению с медиальными, что может быть расценено как индивидуальная особенность.
В соответствии с действующими клиническими рекомендациями [20] динамическое наблюдение за пациентами с БП включает мониторирование фЖЕЛ, периодическое проведение теста 6-минутной ходьбы, УЗИ печени, электрокардиографии, эхокардиографии, повторное определение миоглобиновой фракции КФК, уровня мозгового натрийуретического пептида.
Тактика лечения пациентов данной группы подразумевает мультидисциплинарный подход в соответствии с клиническими проявлениями заболевания. Из немедикаментозных методов рекомендованы высокобелковая, низкоуглеводная, обогащённая L-аланином диета, психотерапевтическая помощь и психологическая адаптация. Основной метод патогенетического лечения — назначение пожизненной заместительной ферментной терапии, позволяющей замедлить прогрессирование болезни, стабилизировать дыхательную функцию, удлинить период жизни пациентов до наступления необходимости в респираторной поддержке и кресле-коляске.
Выводы
Таким образом, клиническая диагностика позднего дебюта БП может быть в значительной степени затруднена. При выявлении миопатического синдрома у пациентов, проходящих лечение у различных специалистов с разными диагнозами, рекомендовано дополнительное обследование, включающее определение фЖЕЛ. Внедрение методики УЗИ диафрагмы имеет, по нашему мнению, большие перспективы у пациентов с БП и другими нервно-мышечными заболеваниями в связи с доступностью, информативностью и неинвазивностью данного исследования.
Всем пациентам с неуточнённой поясно-конечностной миопатией, особенно сопровождающейся слабостью дыхательной мускулатуры, рекомендовано скрининговое исследование активности фермента кислой α-1,4-глюкозидазы в крови. Необходимо учитывать, что данные наследственного анамнеза не всегда доступны, а повышенный уровень КФК и других показателей миолиза не является облигатным признаком заболевания.
Накопление лизосомального гликогена в гладкомышечных клетках церебральных артериол и артерий с сопутствующими структурными изменениями межклеточного вещества предрасполагает к появлению дилатационной артериопатии, что увеличивает риск развития ОНМК и лейкоэнцефалопатии. Информированность врачей-неврологов о возможности цереброваскулярных проявлений БП — это единственный способ заподозрить и диагностировать данное заболевание.
БП является курабельным заболеванием, для которого разработано патогенетическое лечение, вследствие чего ранняя диагностика и своевременное начало терапии критически важны. Патогенетическое лечение БП представляется наиболее оптимальной тактикой профилактики развития цереброваскулярных осложнений, однако в современной научной литературе не представлены данные по соответствующему вопросу, что требует дальнейших исследований.
Об авторах
Виталий Витальевич Голдобин
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Автор, ответственный за переписку.
Email: vitalii.goldobin@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0001-9245-8067
д-р мед. наук, профессор, зав. каф. неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова
Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47Елена Георгиевна Клочева
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Email: vitalii.goldobin@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0001-6814-0454
д-р мед. наук, профессор каф. неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова
Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47Татьяна Григорьевна Вставская
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Email: vitalii.goldobin@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0001-7352-3695
канд. мед. наук, доцент каф. неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова, врач-невролог, зав. неврологическим отд. № 1
Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47Хосиддин Фазлиддинович Юлдашев
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Email: vitalii.goldobin@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0003-3781-5871
аспирант каф. неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова, врач-невролог
Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47Александра Дамировна Мунасипова
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Email: vitalii.goldobin@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0002-2220-3947
ассистент каф. неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова, врач-невролог
Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47Список литературы
- Савостьянов К.В., Никитин С.С., Карпачева К.Е. Лабораторные исследования и болезнь Помпе: от подозрения до мониторинга терапии. Нервно-мышечные болезни. 2016;6(1):54–62. Savostyanov KV, Nikitin SS, Karpacheva KE. Laboratory tests and Pompe disease: from suspicion to monitoring therapy. Neuromuscular Diseases. 2016;6(1):54–62.
- Taverna S, Cammarata G, Colomba P, et al. Pompe disease: pathogenesis, molecular genetics and diagnosis. Aging (Albany NY). 2020;12(15):15856–15874. doi: 10.18632/aging.103794
- Савостьянов К.В., Пушков А.А., Басаргина Е.Н. и др. Селективный скрининг и молекулярная характеристика российских пациентов с болезнью Помпе. Неврологический журнал имени Л.О. Бадаляна. 2021;2(4):203–215. Savostyanov KV, Pushkov AA, Basargina EN, et al. Selective screening and molecular characteristics of Russian patients with Pompe disease. Neurological Journal named after L.O. Badalyan. 2021;2(4):203–215. doi: 10.46563/2686-8997-2021-2-4-203-215
- Никитин С.С., Моисеев С.В. Алгоритм диагностики болезни Помпе с поздним началом у детей и взрослых для врачей различных специальностей. Клиническая фармакология и терапия. 2024;33(2):70–75. Nikitin SS, Moiseev SV. An algorithm for diagnosing late-onset Pompe disease in children and adults for doctors of various specialties. Clin Pharmacol Ther. 2024;33(2):70–75. doi: 10.32756/0869-5490-2024-2-70-75
- Labella B, Cotti Piccinelli S, Risi B, et al. A comprehensive update on late-onset Pompe disease. Biomolecules. 2023;13(9):1279. doi: 10.3390/biom13091279
- Van der Ploeg AT, Reuser AJ. Pompe’s disease. Lancet. 2008; 11;372(9646):1342–1353. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61555-X
- Van Capelle CI, van der Meijden JC, van den Hout JM, et al. Childhood Pompe disease: clinical spectrum and genotype in 31 patients. Orphanet J Rare Dis. 2016;11(1):65. doi: 10.1186/s13023-016-0442-y
- Сафина Д.Р., Алимбекова Л.Р., Фасхутдинова А.Т. Болезнь Помпе с поздним началом. Клиническая фармакология и терапия. 2024;33(3):63–66. Safina DR, Alimbekova LR, Faskhutdinova AT. Late-onset Pompe disease. Clin Pharmacol Ther. 2024;33(3):63–66. doi: 10.32756/0869-5490-2024-3-63-66
- Chan J, Desai AK, Kazi ZB, et al. The emerging phenotype of late-onset Pompe disease: a systematic literature review. Mol Genet Metab. 2017;120(3):163–172. doi: 10.1016/j.ymgme.2016.12.004
- Berger KI, Chan Y, Rom WN, et al. Progression from respiratory dysfunction to failure in late-onset Pompe disease. Neuromuscul Disord. 2016;26(8):481–489. doi: 10.1016/j.nmd.2016.05.018
- Teener JW. Late-onset Pompe’s disease. Semin Neurol. 2012;32(5):506–511. doi: 10.1055/s-0033-1334469
- Erdem Ozdamar S, Koc AF, Durmus Tekce H, et al. Expert opinion on the diagnostic odyssey and management of late-onset Pompe disease: a neurologist’s perspective. Front Neurol. 2023;14:1095134. doi: 10.3389/fneur.2023.1095134
- Клюшников С.А. Болезнь Помпе с поздним началом: ферментозаместительная терапия, комплексное ведение и реабилитация пациентов, экспериментальные терапевтические подходы. Нервные болезни. 2020;(2):3–10. Klyushnikov S.A. Late-onset Pompe disease: enzyme replacement therapy, comprehensive management and rehabilitation of patients, experimental therapeutic approaches. Nervous diseases. 2020;(2):3–10. doi: 10.24411/2226-0757-2020-12174
- Al Shehri A, Al-Asmi A, Al Salti AM, et al. A multidisciplinary perspective addressing the diagnostic challenges of late-onset Pompe disease in the Arabian Peninsula region developed from an expert group meeting. J Neuromuscul Dis. 2022;9(5):661–673. doi: 10.3233/JND-220819
- Zhao Y, Yu X, Li D, et al. Intracranial vasculopathy: an important organ damage in young adult patients with late-onset Pompe disease. Orphanet J Rare Dis. 2024;19(1):267. doi: 10.1186/s13023-024-03282-y
- Курбатов С.А., Кузина Л.А. Клинико-лабораторные характеристики, диагностические лабиринты и патогенетическая ферментная заместительная терапия у 4 больных с болезнью Помпе с поздним началом. Поликлиника. 2023;(1):34–42. Kurbatov SA, Kuzina LA. Clinical and laboratory characteristics, diagnostic labyrinths and pathogenetic enzyme replacement therapy in 4 patients with late-onset Pompe disease. Polyclinic. 2023;(1):34–42.
- Муружева З.М., Ларионова В.И., Новиков П.И., Моисеев С.В. Болезнь Помпе у взрослых: клинические проявления, диагноз и лечение. Клиническая фармакология и терапия. 2023;32(3):63–71 Muruzheva ZM, Larionova VI, Novikov PI, Moiseev SV. Late-onset Pompe disease in adults: clinical manifestations, diagnosis and treatment. Clin Pharmacol Ther. 2023;32(3):63–71. doi: 10.32756/0869-5490-2023-3-63-71
- Marotto D, Moschetti M, Lo Curto A, et al. Late-onset Pompe disease with normal creatine kinase levels: the importance of rheumatological suspicion. Int J Mol Sci. 2023;24(21):15924. doi: 10.3390/ijms242115924
- Ruggeri P, Lo Monaco L, Musumeci O, et al. Ultrasound assessment of diaphragm function in patients with late-onset Pompe disease. Neurol Sci. 2020;41(8):2175–2184. doi: 10.1007/s10072-020-04316-6
- Клинические рекомендации «Болезнь Помпе». М.; 2019. Clinical guidelines “Pompe disease”. Moscow; 2019.